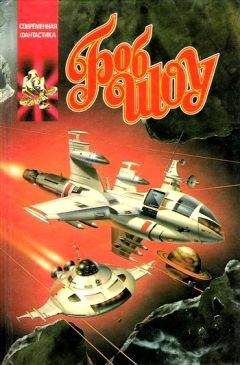— Легионера? — Во взгляде Нормана снова появилось любопытство. — Но как же тебе удалось…
— Инвалид!
Забыв о состоянии собственных ребер, Мирр стукнул себя в грудь, вскрикнул и рухнул всем телом на стол, едва не угодив лицом в пепельницу. Норман взволнованно спросил:
— С вами все в порядке?
— Да так, кольнуло… — Мирр озабоченный главным образом тем, чтобы бармен не прогнал его, выпрямился: — Это все от погоды. Сейчас пройдет…
— и, скрывая замешательство, он вновь принялся за кофе.
Норман крутил в пальцах свой стакан.
— Зачем вы вступали в Легион?
— Я… я хотел что-то забыть.
— Что именно?
— Откуда мне знать? — Мирр никак не мог взять в толк, почему так резко поменялись их роли в беседе. — Я ведь забыл это.
— Конечно… простите… — Норман кивнул и нижняя губа его задрожала.
Мирра мучила какая-то неопределенная вина, но вместе с тем он чувствовал, что пора перехватывать инициативу.
— Норман, — сказал он тихо, — ты сидишь и ждешь, пока откроется призывной пункт?
— Да! Да! Как долго тянутся минуты! Зачем заставлять нас ждать?
— Всему свое время, — успокоил его Мирр, нервно оглядываясь при этом: не побеспокоил ли взрыв эмоций кого-нибудь из посетителей. — Вот что, Норман, расскажи-ка мне о своих невзгодах.
Ответом ему был печальный взгляд.
— Я совершил нечто ужасное и не могу говорить об этом.
— Можешь, Норман! — Мирр положил ему руку на плечо. — Вырви это из себя, скажи. И тебе станет легче.
— Если бы это было правдой!
— Это правда! Правда! Откройся мне, Норман!
— Ты уверен, что хочешь выслушать меня?
— Да, да.
— Мое преступление состоит в том…
— Ну, Норман, ну же…
— Что я дезертировал из Легиона!
С оглушительным грохотом Мирр уронил свою кружку на каменный пол. Потеряв дар речи, он глядел на макушку склоненной в отчаянии головы Нормана, но тут бармен, выскочив из-за стойки, вцепился ему в воротник.
— Вот что, вы, двое! Вон отсюда! Я следил за вами с тех пор, как вы уселись рядышком, и такие мне в заведении не нужны!
— Случайность, чистая случайность, — бормотал Мирр, чей разум все еще раскручивал нисходящую спираль недоверия, засунул две полученные от Нормана десятки в карман рубашки бармена, чем убедил его вернуться на свой пост.
Бармен собрал осколки, выдал последнее предупреждение о держании друг друга за руку и удалился, несколько раз гневно обернувшись.
Мирр постучал по голове Нормана суставом указательного пальца.
— Посмотри на меня, Норман, — прошептал он. — Ты же не будешь обманывать старину Войнана…
— Это святая правда…
— Но послушай, Норман! Дезертирство из Легиона — это такой пустяк, что и волноваться нечего! Каждый рядовой мечтает об этом! Это его единственное желание!
— Рядовые — да, от них ничего другого и не ждут… — Норман наконец-то поднял глаза на Мирра. Лицо его было пунцовым от стыда. — Но я-то был офицером!
— Офицером? — переспросил Мирр и замолчал, пытаясь найти для этой новой информации место в сложнейшей головоломке своей жизни. Однако собеседник его уже впал в исповедническое настроение и не мог остановиться.
— …и не просто офицером. Я — лейтенант Норман Голлубей, единственный сын самого генерала Голлубея! Мои предки безупречно служили Легиону два столетия… два столетия! Два века генералов и маршалов, битв и подвигов, медалей, славы и величия! Можешь ли ты представить, какой груз
— невыносимый груз — наложила на меня семейная традиция?
Мирр отрицательно замотал головой, частью — потому что от него этого и ожидали, частью из-за ощущения, будто мозг ему выжигают каленым железом.
— Почти с той самой минуты, как я родился, а уж с колыбели — точно, меня готовили к службе в Легионе. Отец никогда не говорил со мной ни о чем, кроме как о Легионе. Мать… — МАТЬ! — никогда не говорила со мной ни о чем другом! Жизнь моя была посвящена Легиону, и самое ужасное… что мне этого не хотелось. Я мечтал о другом.
Норман замолк и, судя по всему, погрузился в размышления о сыновней непочтительности.
Мирр был рад этому, потому что жжение в его мозгу усилилось и перед мысленным взором начали одна за другой возникать картины: дом в колониальном стиле с белыми колоннами; седовласый мужчина с суровым лицом, в безупречной форме генерала Космического Легиона; прелестная женщина, чья сдержанность была столь совершенна, что казалась враждебностью, и чья осанка ни в чем не уступала безукоризненной офицерской выправке ее мужа. Это были картины его собственного детства, и Мирр начал догадываться, почему памятевыводитель на призывном пункте выжег все его прошлое. Если вся его жизнь была пропитана традициями Космического Легиона, вина в предательстве семейной чести была равно всеобъемлющей. Каждый запечатленный в его памяти случай, каждая мельчайшая деталь детства были ключом к сущности преступления. Поэтому машина с электронной скрупулезностью изъяла все.
Одна тайна его жизни раскрылась, но вместо нее уже выросла другая.
— Да, Норман, не позавидуешь тебе… Конечно, с таким воспитанием можно презирать себя за самовольную отлучку, но зачем возвращаться в Легион рядовым? Тебе нет нужды избавляться от воспоминаний. Вернись в Легион, и ты уже не дезертир, тебе нечего волноваться! Это так просто!
— Просто! Он говорит! — Норман издал жутковатый смешок: казалось, это плачет сама его истерзанная душа.
— Разве не так?
— Если бы ты только знал!
— Ради всего святого! — Мирр из последних сил боролся с нетерпением, понимая, что находящегося в таком состоянии собеседника торопить опасно. — Расскажи мне, Норман!
— Беда в том, — ответил тот, возбужденно хватаясь за стакан, — что я не просто сбежал, я струсил и дезертировал в бою. Даже для генеральского сынка это — серьезное преступление.
— И вправду, — согласился Мирр. — Но все-таки наш… твой отец мог вмешаться…
Норман отрицательно покачал головой.
— Ты просто не понимаешь… от человека, не воспитанного в армейских традициях, я этого и не ожидал. Нет такого способа, которым можно было бы смыть это пятно с фамильного знамени. Но запомни, не репутация семьи тяготит меня, а чувство вины. Моей собственной, выбитой в мраморе и отполированной вины. Мне стыдно за то, как я дезертировал.
— Расскажи! — потребовал Мирр, игнорируя леденящие предчувствия.
— Не могу. Мне кажется, я вообще ни с кем не смогу об этом разговаривать.
На этот раз неподатливость Нормана вызвала у Мирра чувство скорее облегчения, чем раздражения.