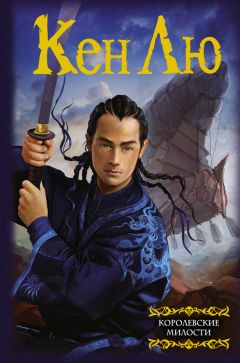Он вставлял в изящные рамки каждый из вышитых ею платков и дарил тем, кто доставлял ему удовольствие или совершал достойный поступок. Его командиры и советники соперничали между собой за то, чтобы получить вышивку Миры, символ уважения гегемона. Казалось, Миру все это забавляло, однако вовсе не интересовала дальнейшая судьба ее работы.
Однажды Мата вернулся в конце очередного дня сражений, утомленный, пропахший кровью и смертью, и, не потрудившись вымыться, сразу направился в покои Миры.
Сохраняя неизменное спокойствие, она спросила, не хочет ли он остаться и с ней пообедать.
– Моя служанка согреет воды для ванны, а я приготовлю на пару карпа, которого купила сегодня на рынке. Вы ведь давно не пробовали блюд Таноа?
В предложении Миры остаться не было покорности или соблазна. Она не попросила его рассказать о подвигах на поле сражения, не выразила восхищение доблестью или силой, а, как всегда, перечислила самые простые вещи, которые они могли разделить.
Мата понял, что она ведет себя с ним как с другом, а вовсе не как с гегемоном островов Дара, подошел к ней, притянул к себе и коснулся губ. Мата чувствовал, как трепещет ее сердце: словно птица, попавшая в силки. Мира уронила руки, державшие иглу и пяльцы с вышивкой, и через мгновение ответила на поцелуй.
Он отстранился и посмотрел ей в глаза. Мира не отвела взгляда, и Мата вдруг понял, что, кроме Куни Гару, никто больше не выдерживал взгляд его сдвоенных зрачков.
– Теперь я тебя поняла, – проговорила Мира. – Теперь я знаю, почему никогда не смогу вышить твой портрет так, чтобы ты был на себя похож.
– Скажи мне.
– Ты напуган. Тебя беспокоят легенды, которые сопровождают твой нелегкий путь, и твоя тень, живущая в сознании других людей. Все вокруг боятся тебя, и ты начал верить, что так и должно быть. Все вокруг льстят, и ты начал верить, что всем так и следует поступать. Все вокруг тебя предают, и ты начал верить, что заслуживаешь предательства. Ты стал жестоким не из-за того, что хочешь таковым быть: просто думаешь, что люди ждут именно такого поведения, совершаешь свои поступки потому, что веришь: идеальный Мата Цзинду желает их совершить.
Мата покачал головой.
– То, что ты говоришь, не имеет смысла.
– Ты хочешь видеть мир вполне определенным и разочарован, что он совсем другой. Но ты сам часть этого мира и боишься, что твоя смертная плоть не сможет соответствовать твоим мечтам о себе. И тогда ты придумал для себя новый облик, который, как тебе кажется, упрощает тебе жизнь, облик жестокого, жаждущего крови, смерти и мести человека, чья гордость оскорблена, а честь запятнана. Ты стер самого себя, заменив настоящего человека словами из старых и мертвых книг.
Мата снова ее поцеловал.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь.
– Ты вовсе не плохой. Тебе не нужно бояться. В тебе есть и страсть, и сострадание, но ты запер свои чувства, считая их признаком слабости, делавшим тебя похожим на других, недостойных людей. Зачем ты так поступаешь? А что, если ты не оставишь следа в истории? Что, если все твои труды исчезнут после смерти?
Раньше я не знала, правильно ли тебя любить, когда весь мир так тебя боится, но тысячи голосов твердили мне, что это правильно. Мадо был прав: среди всего, что имеет значение, только вера сердца является мерой всего. Однако наши смертные сердца слишком малы и вмещают в себя совсем немного. Какую радость я могу испытать, если услышу, что тысячи людей прославились, в то время как мое сердце скорбит из-за смерти брата? Какое имеет значение, если десять тысяч человек считают тираном того, к кому я неравнодушна, если я вижу иначе? Наша жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о чьих-либо суждениях, не говоря уже об истории.
Тебе кажется, что мое вышивание пустое занятие, однако все деяния людей пусты перед лицом времени. Нам обоим не следует бояться.
Она поцеловала его в ответ и притянула к себе, и Мата вдруг обнаружил, что перестал бояться.
Мужской голос, жесткий, как обсидиан, и резкий, точно удар меча по щиту:
– Брат мой, это было умно – повторить трюк Киндо Мараны, но у тебя получилось ничуть не лучше. Шип крубена больше не выпьет крови Цзинду.
В ответ прозвучал другой мужской голос, полный ярости шторма:
– На смертных, как всегда, нельзя положиться.
Женский голос, скрежещущий, резкий, искаженный, подобный воздуху, мерцающему над раскаленной лавой:
– Прекрати говорить чушь, Киджи. Тебе следовало объединиться со мной и Фитовео против настоящего врага. Неужели ты действительно хочешь, чтобы победил этот обманщик, вор из Безупречного города?
Пусть падут оба их дома.
Джин Мазоти смотрела на широкую Лиру, и ее раздражение росло с каждым днем.
Она понимала, что строительство военного флота займет слишком много времени, в то время как ей требовалось найти способ быстро пересечь реку.
По Лиру разнесся слух, что маршал щедро одарит владельцев кораблей из Кокру, если они восстанут против гегемона и переплывут на северный берег реки. Несколько отважных купцов решили рискнуть, но их торговые суда не были готовы к атаке воздушных кораблей. Горящие обломки, мертвые тела, товары, которые находились в трюмах, теперь плавали на поверхности реки – наглядное предупреждение тем, кто осмелится предать гегемона.
Мазоти оставила главную часть своих сил у Димуши, напротив армии Кокру, находившейся по другую сторону широкого устья Лиру, а сама отправилась вверх по течению реки, в Койеку, маленький городок, жители которого славились своими гончарными изделиями: горшками, вазами и прочей домашней утварью. Это была посуда самой разной формы и объема: в одной можно было сварить акулу, в другой – заварить чай.
Мазоти надела парик и нарядилась, чтобы походить на богатую леди из Пэна, прибывшую в городок ради развлечения: посмотреть достопримечательности и выбрать подходящую обстановку для нового дома, который заменит старый, сожженный гегемоном Цзинду, когда тот захватил город. Она бродила по рынкам и с удовольствием рассматривала глиняную посуду, а Дафиро, переодетый слугой, с недоумением наблюдал за ее действиями: прежде маршал Мазоти не выказывала интереса к домашней утвари.
В Койеку стали прибывать торговые караваны, и купцы с удовольствием покупали большие горшки, кувшины и амфоры. В мастерских работа прямо-таки кипела из-за столь резкого увеличения спроса. Город всегда рассчитывал на речную торговлю, но теперь, когда Кокру закрыл границы и запретил торговым судам плавать по реке, количество покупателей резко сократилось, а потому караваны с севера встречали с радостью.
Но вот в одну из безлунных ночей купцы из разных караванов, их слуги и охранники, возчики и посыльные собрались на побережье Лиру возле Койеки и, распаковав купленную кухонную утварь, принялись доставать из повозок… воинскую амуницию.