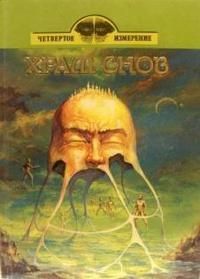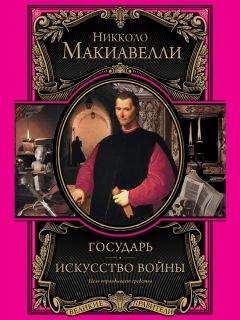Прошло около минуты, и вот вчерашнее повторилось: свершился волшебный переход чрез страшную грань. Я вновь стоял среди мертвого зала. Я обернулся и пристально рассматривал лицо недвижного фотографа. Застылость искажала черты, но все ж оно казалось одухотворенным и значительным, а в безжизненных глазах его была печаль и глубина. Ему было на вид лет пятьдесят, и седина сильно выступала на висках. Не тот ли человек, чьим двойником остался здесь тихий фотограф, создал и стереоскоп? Не призрак ли того, кто нашел запретный путь в страны прошлого, стоит здесь предо мной и грустит о минувшем? Так говорил я себе о нем.
Потом я направился к вестибюлю; и шел туда опять тем же путем, кругом через все нижние залы; ибо страшился пройти через зал Египта. И снова эхо шагов тускло звенело и умирало у карнизов; снова печальный сумрак царил в обширных покоях, а обитатели стояли здесь и там, подобные восковым куклам; сторожили в темных закоулках; иные тайно злобились на меня; иные грустили о минувшем вместе с ними. И снова, когда я останавливался, воцарялась мертвая, ни с чем не сравнимая тишина. Так я достиг вестибюля. Я был уже у самой входной двери, но, повинуясь странному побуждению, приостановился; потом медленно и осторожно подошел ко входу в Египетский зал; переступил его порог шага на три с холодком на сердце и, остановившись здесь, оглянулся вокруг. Все было, как и вчера: лишь в том конце зала я рассмотрел теперь в полутьме двух призрачных посетителей, которых тогда не заметил. Я повернулся к витрине с зиявшим отверстием в продавленном стекле, поднялся на цыпочки и заглянул поверх нее в углубление за нею под окнами: там в мертвом сумраке виднелся темный предмет, похожий на кучу тряпья. Утолив жуткое любопытство, я поскорей вернулся обратно, подошел к входной двери и потянул ее; она мягко и бесшумно подалась; и вот я стоял на давно прошедшем крыльце с исполинскими кариатидами.
И я увидел перед собой улицу, уходящую налево, знакомую и вместе с тем чуждую и страшную, какими порой являются в сновидениях хорошо известные места. Направо расширялась огромная площадь с Колонной посреди, столько раз уже виданная, но также словно искаженная в сонной грезе. Все здесь было мертвых коричневатых тонов – и мостовая, и тротуары, и длинные ряды домов, и туманный Собор вдали, и тусклое небо наверху. Я спустился с крыльца; мостовая была суха, но кое-где стояли лужи, одни с застывшей рябью, другие гладкие, как зеркало; в этих четко отражались призраки домов. Воздух вокруг был недвижим: но было гораздо холоднее, чем в залах, и я не жалел, что я в пальто и шляпе. Навстречу попадались пешеходы, застывшие в странных позах на ходу; с одной ногой, выставленной вперед, так что носок торчал кверху, с другой – отставленной назад. Приглядываясь к ним, я понял, что сильный ветер непостижимо застыл в мертвенном затишье воздуха; потому что пальто их неподвижно вздувались и развевались, и некоторые из них наклонялись вперед и придерживали свои шляпы. То был минувший ветер.
Я тихо брел по широкому и печальному пространству. Такою видели люди живую площадь тридцать лет назад; иное изменилось на ней с тех пор. И таинственным казалось мне, что ни один глаз теперь не может видеть ее такою и что такая она без возврата минула. Фасад Дворца темный, умерший, тянулся предо мной и, кончаясь слева, свободно давал видеть далекие толпы прошедших зданий за рекою; так было когда-то прежде. И, дивясь, я думал, что вот отсюда, с живой площади, никто никогда уже не увидит этих зданий: высокая решетка нового сада пред дворцом скрывает их… Страшная тишина царила вокруг, ни звука не возникало, кроме слабого отголоска моих шагов, бесследно терявшегося в открытом просторе. Я взглянул вверх и увидел впервые в бесцветном небе призрак солнца, озаряющий этот чудовищный мир. Оно стояло еще довольно высоко, но было безмерно тусклее живого солнца: на него можно было смотреть, не щуря глаз. Печальным светом оно заливало этот странный умерший город. Мрачные тени лежали от зданий и Колонны; и так же недвижны, как и они, были тени одиноких пешеходов и редких экипажей с лошадьми, застывшими на бегу, и тихими седоками. Тускло и безжизненно блестела исполинская игла над знакомой белой башней; золото выцвело и умерло в ее сиянии. Лучи давно минувшего солнца слабо, но заметно грели.
Потом я вышел на большую широкую улицу, в которой узнал Невский прошедших времен. Она была наводнена немыми жителями выцветшего города. Одних я встречал, других нагонял, мужчин, детей, по одиночке, по двое и целыми толпами; по широкому тротуару они как бы шли, не двигаясь с места и не шевелясь; у многих застывшие позы были причудливы и порою нелепы. Одни, по-видимому, беспечно прогуливались, другие спешили вперед, и у этих на лицах стояла странная озабоченность. На противоположной стороне также тянулись они темной непрерывной вереницей. Их пролетки, коляски и кареты недвижно катились по мостовой по обоим направлениям. Был разгар движения; как будто минувшие обрадовались яркому сиянию своего призрачного солнца, высыпали на свой Невский и жутко и печально играли в жизнь; и мне чудилось, что все они что-то таят против меня и в тайне грустят о том, что прошло с ними без возврата.
Ряды домов уходили вдаль, виданные не раз, но чудовищные, словно в тяжелом сновидении. Я шел все вперед; порою смотрел вперед на огромную выцветшую перспективу, и, докуда только мог достичь мой взор, всюду, все чернее и черней, по ней густели нескончаемые толпы призраков. Издали они казались более похожими на живых, двигающихся людей; но, приближаясь, убеждался я, что все это лишь застывшие двойники людей, когда-то живших и двигавшихся. Вот далеко впереди виднеется группа призраков; они словно идут навстречу и лица обращены ко мне. Я ближе, ближе к ним; яснее видны лица, они недвижно глядят пред собою, и я уж чувствую на себе их мертвый упорный взор; другие обернулись друг к другу с застывшими улыбками. Вот поравнялись со мною, вижу близко и отчетливо их поблекшие черты, то причудливые, то страшные. Потом миную их; и следуют новые встречные, новые толпы, и все застыло и бескрасочно, и от всего веет в сердце великая грусть. Все молчат, как мертвецы; безмолвствуют там у храма с пасмурной колоннадой и здесь, против отдаленной громады Театра, выходя из подъездов, переходя через дорогу. Ни говора, ни шепота, ни смеха, ни шума экипажей, ни гула великого города; одна только вечная и страшная тишина, нарушаемая лишь быстро угасающими отзвуками моих шагов. Гулко бьется в сердце тихий таинственный страх, но оно владеет им… И думается о том, что иного, хранящегося здесь, уже никто никогда не увидит на живом Невском; и я гляжу, дивяся, на это платье исчезнувшего покроя на призраках, эти прежние магазины, эти забытые вывески…