— Ну, Танюха, у меня слов нет, — сказал Дима. — Спасибо тебе.
— Патронов только одна обойма, — сказала она.
— У Василенки попрошу.
— Не говорите только, откуда ствол.
— Я еще не…
Долгий вибрирующий звук, идущий то ли сверху, то ли из-под ног, заставил его замолчать. Все прислушались, переглянулись. Звук не повторялся.
Дима завернул пистолет в газету и опустил в сумку. Шуршание бумаги было неприятно громким.
— Пойду посмотрю, — наконец, сказал Иван. Пашка молча пошел за ним.
Татьяна улыбнулась — полурадостно, полувиновато. Дима взял ее руки в свои и поднес к лицу. Пальцы Татьяны пахли металлом и ружейным маслом. Дима поцеловал их — все по очереди. Татьяна провела кончиками пальцев по его щеке, потом приподнялась на носочках и губами коснулась губ. Тут же отпрянула и сделала знак: тихо! По лестнице кубарем скатился Пашка.
— Идемте, там такое!.. — он не закончил и снова бросился вверх.
Там, наверху, в дверях стоял Иван в позе вратаря, пропустившего наилегчайший мяч. Что-то было не так, но что именно, Дима понял, только оказавшись под открытым небом. Само небо. Он уже успел за последние дни привыкнуть к равномерно светящемуся белесоватому куполу. Сейчас небо приобрело сиреневый цвет и гнусно мерцало, как ненагревшаяся кварцевая лампа. Солнце, которому положено было быть за школьным зданием, висело прямо перед глазами: даже не багровое, а вишневое, огромное, лохматое по краям и с темным, почти черным зрачком в центре. Кровавый глаз…
Это безумное солнце, возникшее в неположенном месте, вдруг высекло в Диме вспышку какой-то темной безжалостной радости. Что-то с чем-то сходилось, он получал ответы на не им заданные, но в нем звучащие вопросы… Мосты сожжены… Обратной дороги нет… Занавес подымается… Багровый глаз гипнотизировал его, притягивал, звал сделать шаг… И тут Татьяна закричала.
Она кричала дико и показывала рукой куда-то левее, Дима оглянулся и тоже заорал: из кустов к нему боком, по-крабьи, бежал огромный, с собаку размером, паук. Бежал он, к счастью, помедленнее собаки, и Дима успел влететь в дверь и захлопнуть ее изнутри, и прыгнувший паук с грохотом ударился в нее. Дверь в котельную была двойная: наружная, обитая железом, открывалась наружу и запиралась на засов; внутренняя, фанерная, открывалась внутрь и не имела ни засова, ни защелки — ничего, только проушины для навесного замка, да и те с той стороны! И оставалось только налегать на нее всем весом и стараться удержать, не дать открыться… Заскребли когти. Лом, лом тащите! — закричал Дима. Ребятишки посыпались вниз. Паук ударил еще раз, гораздо сильнее, Дима чудом удержался на ногах. Одолею ли я его ломом?.. Черт, иметь бы пару секунд — тогда можно закрыть наружную дверь… Но пары секунд не было. Паук ударил опять. Казалось, в дверь с силой метают пудовые гири. Мальчишки бежали обратно, один с ломом, другой с дворницким ледорубом: топором, наваренным на железную трубу. Дима взял ледоруб. Дождался, когда паук ударит снова, досчитал до трех и распахнул дверь, поднимая оружие — и понял, что проиграл. Пауков было два, один пятился от двери, другой шагах в семи подобрался для прыжка — и прыгнул. Дима попал в него — в самую морду. Тупое лезвие застряло в хитине, ледоруб чуть не выбило из рук. Паук с хрустом, ломаясь, врезался в косяк, а Диму отбросило на несколько ступенек вниз — он еле устоял на ногах. Второй паук метнулся ему на грудь, и он успел только заслониться, громадные жвалы сомкнулись на стали, когти впились в плечи и бока, передние короткие лапы тянулись к лицу и почти доставали, и страшная, сводящая с ума вонь не позволяла вдохнуть, и Дима давил, давил, давил из последних сил, уже ничего не понимая и ничего не видя — и вдруг оказалось, что схватка кончилась, что он встает, царапая ногтями по стене, а у ног его валяется бледным брюхом вверх этот безумных размеров паук, и лапы его вразнобой сгибаются и разгибаются, брюхо подрагивает, а из брюха вываливается и падает на пол толстая, как веревка, паутина. Он видел это как бы сверху, с большого расстояния — а потом внезапно вернулось все. Дима согнулся, и его вырвало желчью. По стенке он кое-как отодвинулся от этого кошмара, и тут оказалось, что паутина прилипла к штанам, и это было свыше всех сил — его опять чуть не стало рвать, но он все-таки сумел переломить себя, нашарил под ногами какую-то палку и кое-как отодрал плотно прилипшую гадость. Только после этого он смог осмотреться.
Иван стоял, сунув руки в карманы, и изредка икал, а пончик Пашка, обняв лом, рыдал в углу. Суровая Татьяна с «ТТ» в опущенной руке стояла над ним и отрывисто повторяла: «Сопля. Сопля. Сопля».
— Танька! — выдохнул Дима.
— Ништяк, — проворчала она. — Говорила же — берет их обычная пуля. Аргентум, аргентум…
И тут Диму настигла настоящая боль.
Он кряхтел и стонал, когда Татьяна раздевала его, когда промывала из чайника раны, бормоча: «Хуже рыси, хуже рыси, ей-богу…», когда перевязывала его же и ивановой разодранными рубашками. А потом боль как бы отдалилась, и стало легче — если не двигаться.
— Еще один, — вдруг будничным тоном сказал Иван. — Пончик, давай сюда лом.
Дима, вскрикнув, вскочил и оглянулся. Но это был не еще один. Это был все тот же. Он полз, цепляясь правыми ногами и стуча костяным телом о ступени. Левые ноги волочились, как хвосты.
— Погодь лом, — сказала Татьяна.
Она передернула затвор, подняла двумя руками пистолет на уровень глаз и выстрелила. Заложило уши. Паука подбросило на ступеньку вверх, секунду он будто бы балансировал, потом покатился и распластался у подножия.
— Берет их свинцовая пуля! — с нажимом повторила Татьяна. В звоне, наполняющем подвал, голос ее прозвучал странно.
— Это дневная тварь, — из своего угла сказал Пашка. — А то о ночных речь шла.
— А ты бы помалкивал, боец, — сказала Татьяна. — Не обоссался хоть?
— Танюха, не надо так, — сказал Дима. — Не добивай его. Мало ли, что по первому разу бывает?
— Когда бы по первому, — сказала Татьяна. — А то…
— Сам не знаю, что со мной, — сказал Пашка. — Не боюсь, не боюсь, не боюсь — а потом как лопнет что…
— Все это лирика, — сказал Дима. — Давайте как-нибудь выбираться отсюда.
Девочка провела его в комнату без окон — впрочем, в этом доме нигде не было окон, — предложила посидеть на диване и вышла. Диван был неплох, но Микк все равно не сумел откинуться на спинку — сидел, склонившись чуть вперед и твердо упершись ногами в пол. В любой миг он мог вскочить. Здесь это ни к чему, но сбросить напряжение он был не в состоянии. Вернулась девочка — принесла чай и печенье. Чай был густой и без сахара. Кип не забыл. Кип много чего забывает, но как раз такое помнит железно.

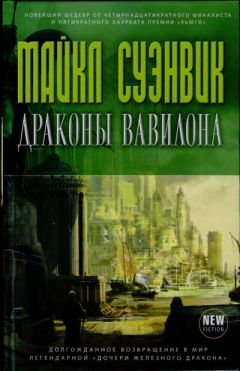
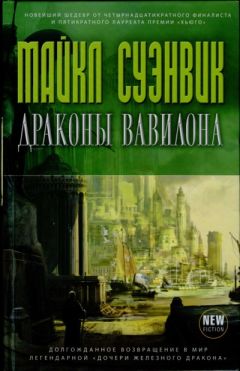

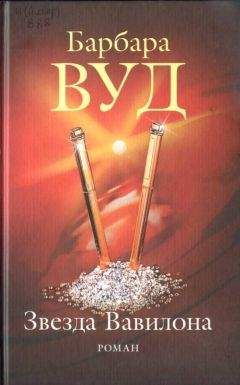
![Гарри Гаррисон - Стальная крыса отправляется в ад [= Стальная крыса в гостях у дьявола]](https://cdn.my-library.info/books/228/228.jpg)