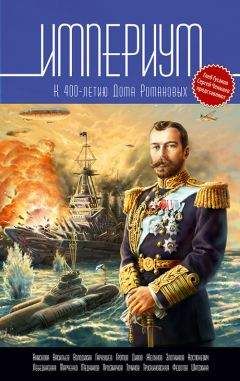В этом традиционном первом глотке был заключен глубокий внутренний смысл. Этим Полупанов показывал (хоть никто этого, наверное, не замечал), что тут ему подают такой чай, которому можно доверять. Чай, в котором ни при каких обстоятельствах не окажется ехидно-желтый ломтик лимона. Жаль, официантка Таня не понимала, что этот нарочитый взгляд в сторону от стакана – свидетельство глубокого уважения к ней учителя истории…
Но Таня была занята – она выставляла на стол остальную еду Полупанова. Историк вновь посмотрел на Журихина и начал на повышенных тонах высказывать претензии. Чуткий к конфликтам и недоразумениям священник, как всегда, появился вовремя.
– Скажите-ка мне, молодые люди, почему это вы пост не держите? – Отец Василий деликатно, хоть и не очень ловко перевел разговор в более спокойное русло.
– А наш учительский труд можно приравнять к тяжелому физическому! – ответил Журихин.
Довод про соблазнившихся видом учительской котлеты гимназистов, приведенный отцом Василием на педсовете, был сказан, конечно же, для красного словца. Педагоги обедали в комнате-нише, отделенной от общего зала старомодными плюшевыми шторами. Таков был заведенный порядок, хотя многие учителя предпочли бы сесть в просторном светлом зале, а вовсе не в комнатке без окон, единственным украшением которой была неизбежная кадка с пальмой, которые директор гимназии стремился везде расставить.
Но порядок есть порядок. Так что учительская котлета никому не становилась поперек горла – страждущие детские глаза ее просто не видели. В комнатку-нишу доставляли обеды на колесных столиках-подносах, укрытых белоснежными льняными салфетками.
Пока отец Василий выяснял мотивы несоблюдения поста, прибыл его заказ. Официантка Таня поставила на стол овощное рагу, дымящуюся фарфоровую супницу…
– Суп из рыжиков, монастырский рецепт! – Отец Василий вдохнул пар, явно наслаждаясь. – А блинчики с белыми грибами? Услада сердца! Видите, можно и поститься, и желудок не обижать. Хотя, конечно, это время не для вкусовых наслаждений…
– Знаем-знаем, для духовных дискуссий! – Полупанов невежливо перебил священника. – А вот скажите, отец Василий, как с моральной точки зрения вы оцените такой казус… Учитель уводит у своего коллеги отличника, который мог написать блестящую годовую работу по истории!
– Настолько блестящую, что коллега, заранее не сомневаясь в ее блеске, даже ни разу не поинтересовался, как у отличника идут дела! И только на недавнем педсовете случайно узнал… – ехидно продолжил Журихин.
Полупанов сверкнул глазами и уже был готов ответить что-то резкое, но священник остановил конфликт, готовый разгореться.
– Стоп-стоп-стоп! Я думаю, каждому из коллег нужно забыть о своей гордыне и подумать прежде всего о самом ученике, о его интересах…
– Вот-вот! Именно о Володе я и думал! О том, как дать выход его пытливости, соединенной с фантазией…
– Как же это получается? Ради эфемерной какой-то фантазии вы спровоцировали его бросить серьезный научный труд! Ведь Володя начал писать годовую работу у меня! У него были чудесные тезисы. Он прирожденный историк! Он рассматривал роль генерала Корнилова с совершенно оригинальных позиций. А ведь это не Тютькин какой-нибудь, это Корнилов! Историография огромная, казалось бы, нового слова не скажешь. Могла получиться отличная статья для исторического журнала, я уже о публикации хлопотать начал…
– В том-то и дело, что чистая история Володю, видимо, уже не интересует. Он гипотезы строит!
– Ну гипотезы, ну материал для диспута, но ведь это всё, согласитесь, детские игрушки! А у него задатки серьезного научного работника.
– Он их реализует, не беспокойтесь. Володя создал полноценное философское произведение. Не сухое рассуждение о том, как хорошо бы построить общество на базе принципов социального равенства… О чем уже давно поговаривают… А настоящую гипотезу в художественной форме! Всё действительно началось с генерала Корнилова. Он просто представил себе, что поход Корнилова на Питер в августе семнадцатого провалился. И что бы после этого было. Было бы, между прочим, интересно. Вы как историк над этим не задумывались?
– Зачем мне об этом задумываться, Сергей Сергеевич? История не терпит сослагательного наклонения.
– Вот потому-то Володя Мизинов вряд ли станет историком…
Как и большинство русских интеллигентов, попечитель Северного учебного округа Василий Лаврович Самойленко любил почувствовать свою значительность. Он, правда, вполне отдавал себе отчет в этом недостатке, но считал его простительным. Ведь до ощущения собственной значительности Василию Лавровичу пришлось пройти весьма долгий путь, начинавшийся со скромной должности лаборанта физического кабинета Первой гимназии.
Правда, в этой должности его помнили лишь сторож Михеич, старый учитель истории Бестужев да бывший физик Благово, ныне ведущий астрономический факультатив. Да и гимназия с тех давних времен переехала с Арбата в Гольяново. Но Самойленко всё же испытывал к Первой гимназии особые чувства и посещал ее чаще, чем другие подведомственные заведения. Увы, сегодня повод для визита был чрезвычайным и не очень приятным.
Городовой у ворот гимназии, завидев знакомый синий лимузин АМО, взял под козырек, и Василий Лаврович приветливо кивнул в ответ.
Михеич, узнав о времени визита заранее, нарочно вышел на крыльцо и, тиская в пальцах связку шелестящих ключей, ждал Василия Лавровича. Самойленко, покинув дорогой уют салона АМО, раскланялся со сторожем, приложив правую руку к левой стороне груди и с приятностью ощутив плотность пошедшего на мундир сукна фабрики Костомарова. Обниматься попечителю и дворнику было не по чину, что отнюдь не умаляло сердечности встречи.
Самойленко задал Михеичу пару незначащих, ритуальных вопросов и, получив столь же незначащие ответы, прошел в холл гимназии. При этом он в который раз подумал о том, что хорошо бы как-нибудь зайти к Михеичу в квартирку, полюбоваться на разные гимназические реликвии, привезенные еще с Арбата, поговорить о старых временах.
Мысль попечителя была трехслойной. Ее первый уровень и был рассеянным желанием посетить квартирку Михеича. На втором уровне Самойленко одергивал себя: мол, значительность занимаемого им ныне поста не дает простой человеческой возможности испытать радости простого человеческого общения с простым человеком…
А третий, самый высокий, даже как бы парящий над первыми двумя приземленными уровнями размышления слой изливал в душу благость и спокойствие. Разность потенциалов двух первых слоев и создавала электрический ток благости (Самойленко не зря начинал лаборантом-физиком!). Благость заключалась в том, что, несмотря на значительность своего положения, он по-прежнему так же мысленно близок к сторожу Михеичу, как и к высоким чинам министерства образования. И если он и не договаривается с Михеичем о визите, то вовсе не в силу пренебрежения этим заслуженным, но занимающим невзрачное место в обществе человеком. А исключительно в силу приличествующих важному посту Самойленко формальных правил поведения! Тем самым значительность занимаемого Василием Лавровичем поста поверялась внутренней значительностью его как человека. Каждый раз, прибыв с визитом в Первую гимназию и проходя мимо Михеича, Самойленко прислушивался к себе, как к камертону: не возникнет ли предательское пренебрежение к старику, не умеющему поддержать умной беседы? Нет, не возникало! Возникало желание попить в уютной квартирке Михеича чайку с лимоном, который сторож так душевно заваривал. Правда, представляя себе эту квартирку, Самойленко воображал ее такой, какой она была в старом здании на Арбате, – в новом-то здании гимназии он у Михеича не бывал. Но это уже было несущественно и не могло испортить настроения Самойленко – а оно было таким, словно в душе попечителя какие-то доброхоты растворили солидный кусок миндального сахару. Увы, дело, ради которого он прибыл сюда, было неприятным и даже горьким.