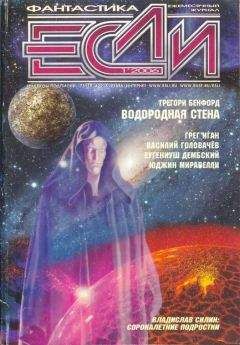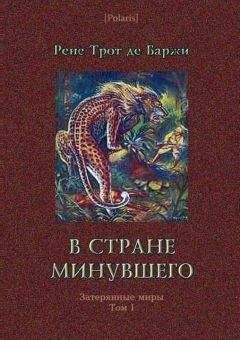Через некоторое время я стоял в уголке переполненного двора и трепался с Уиллом — студентом-биохимиком, жившим здесь уже четыре года. На правах старожила он поначалу здорово задавался, и в первые месяцы меня это злило. Однако незаметно мы стали друзьями, и теперь я был рад возможности поговорить с ним до отъезда — он отбывал в Германию, где получил стипендию на дальнейшее обучение.
Уилл увлеченно делился со мной своими дальнейшими планами, когда я заметил Франсину. Мой приятель посмотрел в ту же сторону.
— Если честно, то я не сразу догадался, что излечило тебя от тоски по дому, — заметил он.
— А я никогда не тосковал по дому.
— Да, конечно. — Он глотнул из стакана. — И все же она тебя изменила. Уж это ты должен признать.
— И признаю. С радостью. Как только мы сошлись, все стало на свои места. — Считалось, что студенческие романы вредят учебе, но мои оценки неуклонно улучшались. Франсина не натаскивала меня — она лишь привела мой разум в состояние, когда все стало намного яснее.
— Но самое поразительное в том, что вы вообще сошлись. — Я нахмурился, и Уилл успокаивающе поднял руку: — Ну, ты был очень замкнут, когда поселился здесь. И недооценивал себя. Когда обсуждался вопрос насчет комнаты, то ты буквально умолял отдать ее тому, кто больше заслуживает.
— А теперь ты еще и издеваешься.
Он покачал головой:
— Да спроси кого угодно.
Я промолчал. Честно говоря, если бы я оглянулся назад и оценил ситуацию, то удивился бы не меньше Уилла. Еще в школе я понял: успех почти никак не связан с удачей. Некоторые попросту уже рождаются с богатством, талантом или харизмой. Они стартуют в жизни, имея фору, и дальнейшие преимущества для них нарастают снежным комом. Я всегда верил, что обладаю, в лучшем случае, достаточным умом и настойчивостью, чтобы оставаться на плаву в избранной для себя области. Во всех классах средней школы я был одним из лучших учеников, но в городке вроде Оранжа это не значило ничего, и я не строил иллюзий по поводу моей карьеры в Сиднее.
И я обязан Франсине тем, что мои представления о собственной заурядности не сбылись; общение с ней изменило всю мою жизнь. Но где я набрался храбрости вообразить, что могу предложить ей что-либо в ответ?
— Кое-что произошло, — признался я. — Еще до того, как я пригласил ее на первое свидание.
— Да?
Я едва не захлопнул створки раковины — я еще никому не рассказывал о событиях в том переулке, даже Франсине. Этот инцидент стал представляться мне слишком личным, словно само упоминание о нем обнажит мою совесть. Но Уилл будет в Мюнхене уже меньше чем через неделю, и вообще гораздо легче исповедоваться тому, кого вряд ли скоро встретишь.
Когда я смолк, Уилл удовлетворенно ухмылялся, словно я объяснил ему все.
— Чистая карма, — объявил он. — Мне бы следовало и самому догадаться.
— Ага, очень научное объяснение.
— Я серьезно. И забудь о мистической буддистской болтовне, потому что я говорю о реальных вещах. Если ты держишься за свои принципы, то и все прочее в жизни складывается лучшим для тебя образом — разумеется, при условии, что тебя не убьют. Это же элементарная психология. У людей сильно развито чувство обоюдности, правильности обращения, которое они получают друг от друга. И если все идет слишком хорошо, то они обязательно начинают себя спрашивать: «А что я сделал такого, чтобы это заслужить?». Если ты не найдешь на этот вопрос подходящего ответа, то навредишь самому себе. Не всегда, но достаточно часто. Поэтому если ты совершаешь поступок, который повышает твое самоуважение…
— Самоуважение — это для слабаков, — съязвил я.
Уилл закатил глаза.
— Ты не согласен? Тогда зачем ты вообще об этом заговорил?
Я пожал плечами:
— Может, этот случай просто поколебал мой пессимизм. Ведь меня могли избить до полусмерти, но не избили же. По сравнению с такой перспективой идея пригласить кого-нибудь на концерт кажется менее опасной. — Меня уже начал угнетать этот навязчивый самоанализ, но мне нечего было противопоставить популярной психологии Уилла, кроме собственной и столь же доморощенной версии.
Уилл наверняка заметил мое смущение, поэтому не стал развивать эту тему. Однако я, наблюдая за оживленно болтающей Франсиной, не мог отделаться от неприятного ощущения хрупкости обстоятельств, которые нас свели. Ведь если бы тогда я сбежал с поля битвы, а израненный парень умер, то я еще очень долго считал бы себя последним дерьмом. И не верил бы в то, что заслуживаю хоть какого-то снисхождения судьбы.
Но я не сбежал. И пусть решение было принято в последний момент, я имею право гордиться своим выбором? Разве чувство Франсины — награда? Я не завоевывал признание дамы в средневековом турнире; мы выбрали друг друга и остались верны этому выбору по тысяче сложных причин.
Сейчас мы вместе, и только это имеет значение. И я не собираюсь задерживаться на пути, который привел меня к ней, лишь для того, чтобы ворошить былые сомнения, которые нас едва не развели.
2012
Когда мы ехали последний километр на юг от Ар-Рафидии, я видел впереди поблескивающую под утренним солнцем Пенную Стену. Почти нематериальную, как гора мыльных пузырей, но все еще целую даже через шесть недель.
— Не верится, что она продержалась так долго, — сказал я Садыку.
— Ты не доверяешь моделям?
— Нисколько не доверяю. И всю дорогу представлял, как мы перевалим через холм и я увижу лишь съежившуюся паутину.
— Значит, ты не верил в мои расчеты? — улыбнулся Садык.
— Не принимай мои слова на свой счет. И ты, и я могли много раз ошибиться где угодно.
Садык свернул с дороги. Его студенты Гассан и Рашид выбрались из кузова грузовика и направились к Стене еще до того, как я успел надеть маску. Садык велел им вернуться и заставил надеть пластиковые сапоги и бумажные плащи поверх одежды, пока мы с ним делали то же самое. Обычно мы не обременяли себя такой защитой, но сегодня все было иначе.
Вблизи Стена почти исчезала — человек видел лишь изолированные отражения с радужными краями, неторопливо дрейфующие по невидимой пленке, когда в ней перераспределялась вода, следуя за волнами, возбуждаемыми в мембране колебаниями воздушного давления, градиентами температур и поверхностным натяжением. Эти изображения вполне могли быть отдельными объектами, обрывками прозрачного пластика, летающими над пустыней и удерживаемыми в воздухе настолько слабым ветерком, что у земли он не ощущался.
Однако чем дальше проникал взгляд, тем более сильными становились эти намеки на свет и менее правдоподобными — любые альтернативные гипотезы, отрицающие целостность Стены. Она протянулась на километр вдоль края пустыни, неровно возвышаясь метров на пятнадцать — двадцать. Но то была лишь первая и самая маленькая из Стен, и сейчас настало время погрузить ее в кузов грузовика и отвезти обратно в Басру.