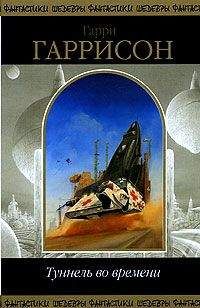Абсолютная тишина царила, пока он рассказывал; вначале нерешительно, пытаясь описать свое замешательство в момент горестного пробуждения, потом, по мере того как в памяти оживали подробности, быстрее и быстрее — борьба в темноте, пленение, последний чудовищный миг, когда тот канул в вечность, и ужас перед возможностью собственной смерти, переполнявший его. Когда Гас закончил, в глазах епископа стояли слезы — он был человеком мягким, он в жизни не подвергался сколь-либо серьезной опасности, и ему было чуждо насилие; но глаза сидевшего рядом с ним капитана оставались сухими, и в них читалось суровое понимание.
— Вы не должны казнить себя, — почти приказывая, проговорил полковник Мэйсон, — тут не о чем жалеть. Попытка преступления налицо. То, что вы сопротивлялись в порядке самозащиты, должно не осуждаться, а приветствоваться. Окажись я на вашем месте, надеюсь, у меня хватило бы умения и храбрости сделать то же самое.
— Но это были не вы, капитан. Это был я. Забыть я не смогу. Этот груз мне нести теперь всю жизнь.
— Не надо казнить себя, — сказал епископ, нашаривая свои часы и взяв Гаса за запястье, — в нем вдруг проснулся медик.
— Дело тут не в угрызениях совести, а, скорее, в понимании. Я совершил ужасную вещь, и то, что она может быть оправдана, не делает ее менее ужасной.
— Да, да, конечно, — с некоторой резкостью сказал полковник Мэйсон, подергивая себя за бороду. — Но мы должны продолжить расследование! Знаете ли вы, кто были эти люди и каковы могли быть их мотивы?
— Я в таком же недоумении, как и вы. Насколько я знаю, у меня нет врагов.
— Вы не заметили никаких особых примет? Тембр голоса, цвет волос?
— Ничего. Черная одежда, маски, перчатки. И они не разговаривали, делали все в полной тишине.
— Исчадия ада! — воскликнул епископ и, совершенно выбитый из колеи, перекрестил себя стетоскопом.
— Хотя… Погодите, погодите! Что-то припоминаю… только бы ухватить… Что-то… да — метка, голубая, возможно, что-то вроде татуировки. У одного из них, на запястье, оно было почти у меня перед носом, когда он меня держал, а перчатка сбилась, отошла от рукава куртки, и на внутренней стороне запястья… Я не могу припомнить точно, просто что-то голубое.
— У кого из них? — спросил капитан. — У того, кто уцелел, или у другого?
— Не знаю. Поймите, не это было моей первой заботой.
— Разумеется. Значит, пятьдесят на пятьдесят, что преступник еще на борту, — если только он не вывалился в люк вслед за своим соучастником. Но под каким предлогом мы можем осмотреть у пассажиров запястья? Члены экипажа нам хорошо известны, хотя… — Он вдруг осекся, пораженный какой-то мыслью, от которой лицо его почернело и стало внезапно жестоким. Когда он заговорил вновь, тон его требовал абсолютного повиновения. — Капитан Вашингтон, пожалуйста, побудьте здесь и ничего не предпринимайте. Доктор позаботится о вас, и я прошу вас поступать согласно его предписаниям. Я скоро вернусь.
И без дальнейших объяснений он вышел, не дав им ни о чем спросить. Епископ осмотрел пациента более тщательно, нашел его здоровым, но переутомленным и рекомендовал успокоительную микстуру, от которой Вашингтон вежливо, но твердо отказался.
Он лежал неподвижно, с окаменевшим лицом, размышляя о том, что случилось, и о том, как будет жить дальше с таким преступлением на совести. Он понимал, что ему придется смириться и привыкнуть к подобной жизни. За те минуты, что он лежал здесь, он возмужал и стал старше, так что, когда дверь открылась и капитан появился вновь, перед ним был уже совсем другой человек. За спиной капитана произошло движение; Алек и второй помощник вошли в каюту, крепко держа за руки кока.
Он не мог быть никем иным, этот крупный солидный человек в белом, с высоким поварским колпаком на голове, с нездоровой кожей, с аккуратными усиками — и с выражением полной ошеломленности на лице. Как только дверь закрылась и пестрая компания заполнила миниатюрную каюту так, что стало нечем дышать, капитан сказал:
— Это Жак, наш кок. На корабле он с самого начала, а в «Кунард-лайн» работает лет десять, а то и больше. Он ничего не знает о событиях нынешней ночи, и заботят его сейчас только круассаны, оставленные в печи. Но он много раз прислуживал мне за столом, и я вспомнил одну вещь.
Стремительным движением капитан схватил кока за руку, вывернул ее ладонью наружу и оттянул рукав куртки. Там, на внутренней стороне предплечья, виднелась поразительно ясная на фоне бледной кожи татуировка — якоря и канаты, трилистники и лежащие русалки… Она мелькнула, и Вашингтон словно заново увидел этого человека — уже не в белом, а в черном, вновь почувствовал силу его затянутых в перчатки рук, услышал его хриплое дыхание. Не обратив внимания на попытку епископа удержать его, Вашингтон встал к коку вплотную, лицом к лицу.
— Это он. Это тот человек, который пытался меня убить.
На протяжении нескольких долгих секунд лицо кока сохраняло изумленное выражение. Затем на нем отразились тревоги и замешательство, он впился взглядом в своего обвинителя, стараясь понять, чем все это может для него обернуться, в то время как Вашингтон угрюмо и непреклонно смотрел коку в глаза, точно хотел заглянуть в душу. Затем оба державших Жака офицера почувствовали, что руки у него задрожали и дрожь перекинулась на все тело; отчаяние охватило его, вытеснив остальные чувства, — теперь офицерам пришлось преступника уже не держать, а поддерживать. А когда он наконец раскрыл рот, его словно прорвало — слова хлынули из него потоком, который уже невозможно было остановить.
— Да, я это был, но меня заставили, я не сам, бог свидетель — не сам! Святой боже! — выкрикнул он по-французски. — И вспомните, вы были без сознания, я мог сделать все, что ведено, вы бы не смогли сопротивляться, я спас вам жизнь, оставил там. Так не дайте им взять мою, я умоляю вас; сам бы я ничего такого не сделал…
С мучительным облегчением он рассказывал все — всю свою несчастную повесть с момента, когда он впервые ступил на землю Англии двадцать лет назад, и что с ним происходило потом. Он въехал в страну нелегально. Друзья помогли ему убежать от унизительной парижской безработицы — друзья, которые в конечном счете оказались не столько друзьями, сколько тайными агентами французской короны. Уловка была простой и такой обыкновенной — но она срабатывала наверняка. Просят помочь, и отказать уже невозможно — иначе его выдадут властям, посадят, сошлют… А дальше — больше, на все есть документы, и почти всякая услуга подсудна — и так, пока не запутаешься окончательно в тенетах шантажа. С тех пор как он угодил в сети, использовали его редко, он был тем, кого на языке преступного мира называют «соней», — ждал, подремывая до времени, в глубине приютившей его страны, точно так же, как дремлет бомба, готовая в любую минуту взорваться от первой же искры. И вот — запал подожжен. Приказ, встреча, пассажир на корабле, угрозы и издевательства и откровенная фраза о том, что его оставленная во Франции семья окажется в опасности, если он посмеет отказаться. Он не посмел. А дальше ночная встреча и ужасные события, которые за нею последовали. И чудовищный финал, когда агент погиб, а совершить преступление сам он не смог; он сразу знал, что не сможет. Вашингтон слушал и понимал; именно он распорядился, чтобы сломленного человека увели, он понял все слишком хорошо. Позже, когда оставались считанные минуты до последнего маневра воздушного корабля над проливами перед посадкой в бухте Нью-Йорка, капитан сообщил Вашингтону то, что к этому моменту удалось выяснить.