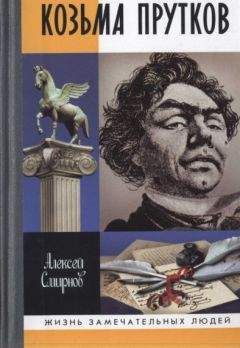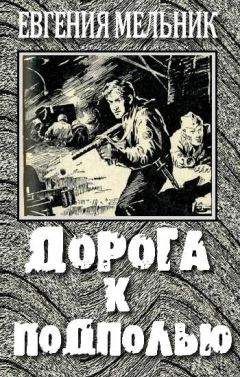— Погодь, а почему ты в курсе? Тебе что, поручили расследовать?
— Угу… — Коломиец решил не уточнять, как вышло, что ему «поручили».
— Иди ты!.. — умилился Борис. — Ну, молоток, поздравляю, такое дело доверили! Далеко пойдешь.
— Может быть, даже слишком далеко, — вздохнул Стасик. — Как говорится, на легком катере к такой-то матери.
— Ото, а что это ты так? То-то я заметил, что походка у тебя не наша.
Мимо проходила официантка. Коломиец тронул ее за рукав: «Еще бутылочку, пожалуйста» — и за второй бутылкой, как на духу, рассказал все приятелю.
— Ну, дела-а… — протянул Чекан. — Такого еще не бывало. Верно я тебе говорил про подспудное кипение страстей в науке — за внешним-то бесстрастием. Не совсем он психически устойчив, научный мир. Узкая специализация! Вообще любая ограниченная цель — будь то даже научное творчество, поиск истины деформирует психику. Но не до такой, простите меня, все же степени! Бзик — это понятно, это бывает. Но чтобы наповал… Стась, может, здесь что-то не так, а?
— Что не так?
— Не знаю… Слушай! — У Чекана зеленовато блеснули глаза. — Дай-ка мне эти тураевские бумаги, а?
— Что?! Иди-иди… — Коломиец даже переложил портфель с соседнего стула себе на колени. — Не хватало еще, чтобы ты на этом деле гробанулся. Что я твоим родителям скажу!
Но Борис уже воодушевился и теперь всю свою эмоциональную мощь, которую перед этим расходовал вхолостую, на абстрактную — без фамилий и юридических фактов — критику положения в своей науке, он направил на ясную и близкую цель: заполучить заметки. В паре Борька — Стаська в школьные времена он был заводилой, товарищ ему во всем уступал, и сейчас он тоже рассчитывал на успех.
— Да бро-ось ты, в самом деле, внушили вы там себе бог знает что! — начал он. — Ну посуди трезво, если способен: вот я сижу перед тобой — молодой, красивый, красномордый… и оттого, что прочту какие-то бумажки, вдруг околею?! Анекдот!
— Те были не менее красивы, чем ты. А Хвощ так даже и красномордый.
— Ну хорошо, — зашел Борис с другого конца. — Ты-то сам прочитал эти бумаги.
— Конечно, и не раз.
— Ну и жив-здоров? Температура, давление, пульс — все в порядке?
— Э, так ведь я другое дело. Я не физик.
— Нет, дубы вы все-таки там, в прокуратуре, извини, конечно, — сил нет! Что твой шеф, что ты. Для вас все физики на одну колодку — вот и поделили мир на две неравные части: одни, физики, прочтя заметки Тураева, все понимают и умирают, а другие, нефизики, ничего не понимают и остаются живы. Боже, как примитивно! Ведь в физике столько разделов, направлений…
Коломиец, хотя сердце его по-мальчишески таяло, когда Борька устремлял на него просящие зеленые глаза, решил быть твердым как скала.
— Между прочим, пока так и было, физики, прочтя, умерли, нефизики остались. И не заговаривай мне зубы, Борь, ничего не выйдет. Для тебя — именно для тебя, с твоим богатым воображением — эти записи губительны.
Чекан даже изменился в лице.
— Ы-ы-ы!.. — сказал он, выпячивая челюсть. — Вспомнил, тоже мне!
…Десять лет минуло, но и до сих пор Борис менялся в лице при упоминании о его «богатом воображении». Дело было так: девятиклассники Чекан и Коломиец, отправляясь на первомайский школьный бал, выпили — и по неопытности перебрали. На балу они вели себя шумно, скандально, были с позором выдворены, а день спустя их отчитывал директор Александр Павлович (в кулуарах — Аляксандра Шастой Беспошшаднай). «Сколько вы пропили-то?» — поинтересовался он напоследок. «Три пятьдесят», — ответил Стась. «Вот видите, — Аляксандра Шастой поднял палец, — на эти деньги вы могли съесть килограмм сливочного масла!» И как только он это сказал, серо-зеленый от похмельных переживаний Борис шумно стравил на ковер в директорском кабинете… Потом он оправдывался, что виной всему было его богатое воображение: как представил, что ест этот килограмм сливочного масла, да еще без хлеба, так и не сдержался. Отсюда и пошло.
— Вспомнил, нашел довод… — укорял он теперь Стасика. — С тех пор мы, я полагаю, повзрослели, поумнели, научились владеть собой. Я так точно. И сейчас, Стась, говорю тебе без дураков, перед тобой сидит диалектический оптимум.
— Это ты, что ли?
— Именно я. Я — физик-квантовик, с теориями пространства-времени знаком постольку-поскольку, для общего развития… хотя и лучше тебя, разумеется. То есть в достаточной степени лучше, чтобы понять суть заметок Тураева, но явно недостаточно, чтобы, даже если следовать твоей с Мельником кошмарной теории, от этого прыгнуть в ящик и захлопнуть над собой крышку. Усвоил?
— Ага. Вообще в твоих доводах что-то есть, — сказал Коломиец. — Мы действительно упростили деление до физиков и нефизи- ков, это примитивно, ты прав. Вот и надо будет найти кого-то с таким диалектическим оптимумом и дать ему на заключение.
— Так ты уже нашел, чудило! Давай… — Борис протянул руку к портфелю.
— Э, нет, Борь, только не тебе! Физиков много, а ты для меня один.
— То есть… ты нахально заимствуешь подсказанную тебе идею, а меня побоку! Не уважаешь… не желаешь уважить меня как специалиста? — Чекан потемнел.
— Да уважаю, не сердись ты! Рискованно же очень.
— Понимаю: заботишься о моей жизни, а заодно, и о своем прокурорском будущем. Ну, так считай, что лично для тебя я уже покойник. Меня не было и нет. Девушка, получите!
Ну, если Борька потребовал счет, это серьезно. Коломиец заколебался:
— Да погоди ты, погоди… Ладно, — он раскрыл портфель, — с собой я тебе их не дам, а здесь прочти. Ты сейчас пьян, многого не усвоишь.
И он начал по листику выдавать Чекану конспект Загурского, а затем и заметки Тураева; прочитанное тотчас забирал назад. Правда, когда дошло до гибельных тураевских листков, Стасик заколебался; но от выпитого в душе распространилась томность и беспечность, недавние сомнения показались ему самому блажью: что от такого может случиться! Недаром же говорят в народе: от слова не станется.
К концу чтения Борис несколько раз поворачивал голову к деревьям за барьером павильона: клену и липе в молодых листиках, смотрел на них с каким-то новым выражением лица.
— Да-а… — протянул он, возвращая Стасю последний лист. Действительно, копнул под самые корни. Есть над чем поломать голову. Совершенно новый поворот темы!
— А конкретней? — придвинулся к нему Коломиец.
— Что — конкретней? Вот теперь возьму и умру, ага!
— Ты так не шути, пока что счет 3:0 не в нашу пользу. По существу можешь что-то сказать?
— Понимаешь… — Борис в затруднении поскреб плохо выбритый подбородок. Так сразу и не выразить. Ну, первую часть этой идеи, что в конспекте Загурского, я и раньше знал. Вся физическая общественность нашего города о ней знает, споров и разговоров было немало. Но ведь это только присказка, вернее сказать, интродукция — а самая-то сказка в последних записях Тураева. Шур Шурыча. Верно, есть там нечто такое… с жутинкой. Да еще и впечатление от его смерти ее усиливает. — Чекан задумался, встряхнул кудлатой головой. — Поэт все-таки был Александр Александрович, именно физик-поэт, физик-лирик, хотя журналисты по скудости ума и противопоставляют одно другому. Он умел глубоко почувствовать физическую мысль, дать зримый и чувственный образ проблемы. И там есть… особенно дерево это. Я вот теперь смотрю, — он снова оглянулся на деревья, — ведь действительно все ветки сходятся с соблюдением законов сохранения «масс» и «импульсов». И где были мои глаза раньше! Вот голова была у человека, а?