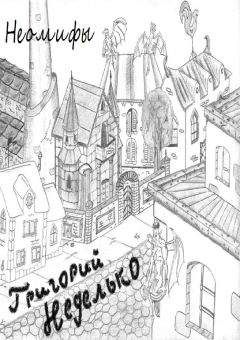— Вот, Дец, держи. Я буду тебе очень благода…
Я взял деньги и сунул их в карман. Надо действовать, пока я опять всё не забыл!
— Да-да. Как и всегда, верно, проф? Чао!
Я вышел из университета, где профессор Колбинсон ставил свои опыты, и направился в ближайший стрип-бар.
Реальность не хочет меняться, чтобы угодить мне? Ну что же, я не буду её менять. Даже пробовать не стану. Я просто повеселюсь в стрип-баре. Потом, может быть, забреду в казино и сыграну в покерок. Найду себе классную девчонку, схожу с ней в ресторан, а после — понятно что. Так я потрачу деньги. И не на что будет покупать столь необходимые мне тапочки.
Опыты, значит. Эксперименты. Эх, проф, проф. Не умеешь ты жить…
Через несколько часов я проснулся в каком-то отеле. Естественно, в кровати с обалденной красоткой. Как её звали — одному дьяволу известно, ну да не привыкать. Важнее было другое. Я вдруг подумал, что надо срочно потратить оставшиеся деньги. Мне показалось, если этого не сделать, произойдёт что-то неприятное. Теперь-то ясно, от чего у меня возникли такие мысли. С мелочью в кармане, я бы снова припёрся в магазин и попытался купить тапки. А в тот момент меня лишь посетило чувство, что надо избавиться от наличности. О том, как всё обстоит на самом деле, мне позже рассказал Колбинсон.
Так, значит, я подумал: «Ну уж не-эт. Дудки!» — имея в виду, что неприятности щас совсем ни к чему. В такой приятный, погожий денёк, когда я — пусть это пока и оставалось для меня тайной — наконец вернулся домой.
Я взял с табуретки джинсы и высыпал деньжата на кровать. Подсчитал. Можно приобресть бутылку вина и пиццу. Вот ведь цены нынче. На нормальный перекус средств хватает, а тапочки гиперпространственные, даже ломаные-переломанные, на них не купишь.
Но это были частности. Главное, я не оставлял реальности ни единого шанса.
— Алло. Это ресторан на первом этаже? Примите, пжалста, заказ в номер…
(Май 2011 года)
Смерть им к лицу (Соавтор — Валентин Гусаченко)
Доктор : — Это довольно странно, скажу я вам.
Ваше запястье, насколько я могу судить, сломано в трёх местах.
И раздроблены два позвонка, хотя нужен ещё рентген…
Но кость, выпирающая через кожу, — плохой признак.
Температура тела у вас ниже 25 градусов, и сердце не бьётся.
Эрнест Менвилл : — И что это, чёрт побери, значит?!
(«Death Becomes Her»)Город откинул спальные районы ночью.
Но перед этим тепло и свет утекли во мрак сквозь пространство-время. Лампочка в подъезде в очередной раз моргнула, содрогнулась, затем звонко щёлкнула, напустив в колбу мутного, словно молоко, дыма, и погасла. Густая, почти осязаемая мгла хлынула по лестничным маршам, жадно пожирая ступеньку за ступенькой. Скособоченный трёхэтажный дом, построенный в прошлом веке, превратился в чёрную тень, в коробку из бетона и железа, под крышку наполненную страхом и ожиданием. Лишь щербатые, усеянные окурками подоконники блестели в свете толстобокой Луны тысячами осколков от разбитых пивных бутылок.
Минуту стояла тишина, вязкая, концентрированная, едкая. Вдруг отворилась дверь квартиры на третьем этаже, а потом с жутким грохотом захлопнулась; замок лязгнул на весь подъезд. Вышедшая на лестничную площадку девушка после недолгой паузы застучала по каменным ступенькам высокими острыми каблуками. Спустившись к выходу из подъезда, не лишённая привлекательности и вместе с тем не отличавшаяся худобой юная дама замерла. Последовал смачный плевок, после которого темноту разрезал звонкий женский голос:
— Чёрт тебя дери, электрик криворукий! Найду — прокляну!
Домофон пронзительно запиликал.
На улице девушка, закинув за спину чёрный рюкзак, зашагала к толстому дереву, что стояло напротив дома. Старый ссохшийся дуб, издалека похожий на кривую опору ЛЭП, власти грозились спилить уже не первый год. Но то один, упав с ветки, насмерть разобьётся, то другой от сердечного приступа у основания поляжет. Чертовщина.
Набросив на голову капюшон балахона, тоже тоскливо-чёрного, девушка свистнула, отчего соседские дворовые псы зашлись нестройным лаем. Обеспокоенно глянула на шелестящее небо и подошла к дубу.
Невысоко, в паре метров от дупла, широко расставив крылья и нахохлившись, как разъярённый тетерев, сидел ворон. Он был будто соткан изо льда, стекла и камня. Крылья блестели, словно полированная сталь, глаза застыли, уставившись в самую верхнюю точку неба. Когти твари, схожие по виду с кусками угля, надёжно обхватили гнутую ветку. Расправив крылья, ворон повернул голову, взглянул в глаза девушке и протяжно каркнул.
— И тебе привет, Эдгар.
Она призывно махнула рукой — птица слетела с дерева.
Парочка, пройдя сквозь заросли, попала в заброшенный парк, всегда с радостью их принимавший. Мрачный сквер зарос шиповником и акацией. По земле стелился туман, густой, как кровь, текущая из раны, и белый, как смерть, что витает над кладбищем. Лакированные сапоги с жуткими черепами-застёжками и шнуровкой до колен выстукивали по асфальту непонятный резвый мотив, отдававший биением обезумевшего сердца. Одинокое эхо разносилось ветром на многие километры вокруг, вселяя в случайных прохожих неясное беспокойство: в такую рань порядочный хозяин собаку на улицу не выгонит.
Их путь завершился на отдалённой, захваченной травой могиле. Ворон вспорхнул на голое деревце, чтобы навести марафет. Подрагивающие от волнения пухленькие руки вынули из кармана балахона смятую бумажку, развернули, разгладили. Написанное всё равно оставалось неудобочитаемым.
— Clatto… Verata… чего?
— Кар-р!
— Кончай каркать, Эдгар, и помоги!
— Кар-ркнул Эдгар-р: «Пр-риговор-р!»
— Мерзкая птица! Блин, кто это писал? А, это же я писала. Ну тогда ладно… Р-р-р! Нифига же не прочтёшь! Может, сходить домой, глянуть в инете?
— Кар-р!
— Поняла-поняла. Не буду, — проворчала девушка. — О’Кей, попробуем снова. Clatto, Verata… Nicto, во!
Девушка замерла в благоговейном ожидании. Но магические слова произнесены, а на кладбище по-прежнему царит мёртвая тишина — никто оживать не намеревается. Хотя должен, чёрт возьми!
— Clatto, Verata, Nicto! — повторила она — веско, с достоинством.
Похороненный, судя по всему, плевать хотел на вескость, продолжая вести себя крайне недостойно: могилу изнутри не разрывал, прогнившими руками не тряс, не лез из ямы, будто трупный червь из пустой глазницы, не ходил с диким криком. Не подавал вообще никаких признаков жизни.