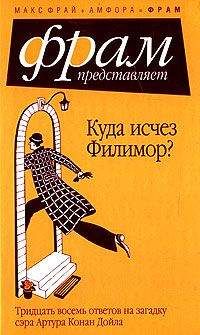— Теперь вернемся скоро.
Но на самом деле я многого еще не понимал. И он видел это.
— А как же вы все-таки прилетели? — спросил я. — Вы же говорите, что у вас не развита техника.
— Вы не поняли: она у нас развита, но развитие ее шло путем, противоположным вашему. Мы уже очень давно умеем путешествовать за пределы планеты, но мы почти не умеем добывать энергию. Она всегда у нас была даровая. Теперь положение изменилось. И давайте взаимно учиться.
— Передайте Аносову — он на верном пути. По важна не только энцефалограмма, важен весь спектр биотоков человека. И еще. Вам. Запомните. Внешность выстроена по законам, внешность, не маска, маска — это ложь. Поэтому одним нужно продление внешности внутрь, а другим выведение внутреннего мира наружу. Я еще плохо говорю словами. Понятно?
— Понятно, — сказал я. — Но ответьте. Наука стремится перейти дозволенную грань и вступает а противоречие с этикой. Как снять противоречие? Часто между людьми стена из воздуха.
— Преодоление отчужденности равно преодолению этического барьера, это не прорыв в психологию, как думал Аносов. Этический барьер — вот чем займется ваша наука теперь. Человек не средство, а цель. Человек — это пункт встречи всей вселенной. Кто думает иначе, тот…
— Мещанин, — подсказал я.
— Да. Главный ваш враг, — сказал он. — Это есть ваш последний и решительный бой…
— А ваш?
— И наш, — сказал он. — Но мы прилетели перенять ваш опыт—У нас развитие шло другим путем.
У них развитие пошло не по линии техники, а по линии саморазвития. За технику они только сейчас берутся всерьез, уже готовые к ней нравственно.
— Как это получилось? — спросил я. На Земле использование атомного распада есть венец развития материальной культуры, цивилизации, а у них это начало. У них там сложились такие условия, что урановые источники были для них в древности как для наших неандертальцев головни из лесного пожара. У них не было нужды обеспечивать внешнюю жизнь, поэтому их история — это в основном развитие жизни внутренней. Только теперь стали иссякать природные источники энергии, и они нуждаются в нашем внешнем опыте и принесли нам плоды опыта внутреннего.
Вот почему они до сих пор не прилетали. И мы не успели тоже.
Теперь спокойно. Теперь я должен рассказать нечто, что переворачивает все обычные представления и что тогда показалось мне убедительным, как аксиома, а теперь после их отлета похоже на фантастику.
Слушайте. Они уже прилетали один раз.
Они прилетали и застали расу прекрасных людей и поняли, что люди созрели для красоты. Помните, об этом рассказал Гомер — первый эксперимент с красотой, похожий на Лешкин эксперимент с техникой? Афина — мудрость, Гера — обыденная жизнь, Афродита — красота. Парис выбрал красоту, и Афродита открыла ему глаза на красоту Елены. Помните, что получилось тогда? Парис присвоил красоту. И началась война между людьми, увидевшими ценность красоты. Видоизменяясь в эпохах, эта война длилась до двадцатого века, пока люди сообразили, что война хуже, чем отказ от красоты, и наступила обыденность.
— Парис был первый мещанин, — сказал он. Странно, я не засмеялся и очень удивился этому. Я помню.
— Мы тогда исходили из своих представлений, — сказал он. — И потому выбрали Париса, прекрасного молодого человека, норму. Мы тогда еще не знали о вашем пути развития, противоположном нашему, и думали, что вы просто отстаете по фазе. Поэтому мы выбрали норму и проглядели исключение, обещавшее норму более высокую, — Гомера. Они его считали слепцом. Они ошибались. Просто взгляд его стекленел, когда он переводил наш способ понимания в ваши слова… Теперь мы прилетели потому, что нас позвал ваш друг. Мы поняли, что наступает эпоха новой нормы. Вот и все.
— Нет… не все… — сказал я.
Меня била дрожь. Мы стояли возле колонны, и я трогал руками холодные каннелюры, и в глазах у меня билась синь Эгейского моря.
— Если все так, как вы говорите… если ваш мир такой… то кто же был этот первый, которого вы прислали?..
— Мы не присылали его. Он улетел сам.
— Кто же он? Кто эта вонючая помесь электроники и Чингисхана, этот озверелый мещанин?
— Он удрал из больницы и чуть все не испортил. Это просто наш сумасшедший, — сказал он. — По-вашему — псих. Я думаю, и у вас мещанство — это безумие.
…Утро было розовое, тихое.
Она еще спала, моя Афродита. Елена моя, моя благородная норма, девочка золотого века, и на шее у нее пульсировала голубая жилка.
Я все вспомнил. Всю свою жизнь за последние тысячи лет человечьей истории, и в душе у меня звучала прощальная песня Гошки Панфилова, Памфилия, который не подчинился и угадал, он вымечтал свою любовь, и она претворилась. Это была песня про Аэлиту.
Мужики, ищите Аэлиту!
Видишь, парень, кактусы в цвету!
Золотую песню расстели ты,
Поджидая дома красоту.
Семь дорог — и каждая про это,
А восьмая — пьяная вода.
Прилетит невеста с того света
Жениха по песне угадать.
Разглядит с ракеты гитариста,
Позовет хмельного на века,
Засмеется смехом серебристым,
И растопит сердце простака.
У нее точеные колени
И глазок испуганный такой,
Ты в печурке шевельни поленья,
Аэлиту песней успокой.
Все равно ты мальчик не сезонный,
Ты поешь, а надо вычислять,
У тебя есть важные резоны
Марсианок песней усыплять.
Вот разлиты кактусной пол-литра,
Вот на Марс уносится изба.
Мужики, ищите Аэлиту,
Аэлита — лучшая из баб.
Не беда, что воют электроны,
Старых песен на душе поток!
Расступитесь, Хаос, Космос, Хронос!
Не унять вам сердца шепоток!
Мне всегда хотелось прочесть или написать роман, а может быть, повесть, которая бы кончалась так:
«…Он просидел за столом до утра, заснул, положив голову на руки, потом проснулся и увидел, что наступило утро. Он встал, вытер лицо ладонями. Панорама домов уходила в легкий августовский туман. Стараясь не глядеть на незнакомую комнату, где он прожил много лет, перешагивая через бумажный мусор, посуду и заскорузлые холсты, он вышел из квартиры и запер ее на ключ. Когда он вышел из парадного, в уши ему кинулся негромкий призрачный шум улицы. Панорама домов уходила в легкий августовский туман. Слышался шум работ, звенели трамваи. Он достал из кармана ключ от квартиры и, подойдя к краю тротуара, опустил его в ближайший водосток. Панорама домов уходила в легкий августовский туман. Надо было жить. Звенели трамваи…»