Джон, сложив ноги по-турецки, сидел на диване и смотрел на меня так, словно уже не один час глядит так на дверь в ожидании чьего-либо появления. Скорее всего, так оно и есть.
– Был дождь? – спросил он вместо приветствия.
– Нет границ твоей проницательности. – Я был мокр, как ондатра.
– Значит, я спал.
– Вот вам и дедукция, и индукция…
– Все-таки свинья же я, – сказал Джон, без всякой связи с моими словами.
– Не смею спорить, – ответил я. – А Светка где?
– У матери. У моей. Помогает. Деда Слава умер.
Вот тебе и раз. Охоту острить разом отшибло. Я сел на диван. С Джоном мы с самого детства знакомы. В одном дворе росли. Отца у него не было, мать на работе круглые сутки пропадала – фактически одна в семье кормилица, – а воспитывал его, в основном, дед. И меня отчасти.
Деда Слава тоже работал. Но работал он у нас в школе – учителем зоологии и ботаники. Его комнатушка, примыкавшая к кабинету, была вопиюще интересным местом, и мы пропадали там целыми днями. Там росли маленькие пальмы и огромные, с руку величиной, огурцы. В клетках гуттаперчевыми мячиками катались белые мышки, и убегали от собственных хвостов стройные ящерки. В сетчатом террариуме, по-гафтовски поглядывая на нас, ползали змеи…
Были там и вовсе удивительные экземпляры. Например, семейство волосатых лягушек, которое жило в укрытой сеткой из камыша жестяной ванне, или наша любимица – крыса с двумя хвостами (мы так и звали ее – «двухвостка»)…
– Главное, больше года его не видел. Собираюсь все, а не захожу. – Джон принялся грызть ногти. – Работа, работа… Совсем озверел.
Я дотянулся до пачки «Родопи» и закурил. Сказать мне было нечего. О его работе у меня особое мнение, но сейчас об этом не стоит.
Любите вы рассуждать. «Дети – наше продолжение…» – Под таким пренебрежительным «вы» Джон, как правило, подразумевает всю пишущую братию. – Чепуха. Нет продолжения. По идее, я – деда продолжение. А я не чувствую. Нет его во мне. И тем жутче. Умер он. Совсем, понимаешь. Без продолжения. А мне стыдно было. Даже не стыдно, а… – Он подыскивал точное выражение. – Неприятно. Я ж – «несбывшаяся надежда». Он же во мне Рихтера видел, как минимум…
Джон – музыкант. Клавишник в ресторане «Лукоморье».
– А я его месяца два назад встречал, – вспомнил я. – Он прекрасно выглядел. Бодрый такой, веселый старикан.
– Точно. После операции я его не узнавал. Как будто родился заново. Тогда я его и видел в последний раз.
Полтора года назад дед лежал в клинике института нейрохирургии. Моего института. Что-то у него было с головой.
Затушив сигарету, Джон сказал:
– Знаешь что. В кресло сядь. Полежать хочу.
– Да я, наверное, пойду, – заторопился я. Джон промолчал и лег. Значит, я правильно понял: он хочет побыть один. Я натянул мокрую рубашку.
– Зачем заходил-то? – спросил он, не открывая глаз.
– Просто, хотел историю одну рассказать. На работе штука одна приключилась. Потом расскажу. Привет.
– Привет, – буркнул он и повернулся на бок лицом к стене.
… Ну вот мы с Лелей и в ресторане.
Песня кончилась, и Джон (совсем другой, оживший Джон), выбравшись из-за «Крумара», подсел за наш столик. Я всегда с удовольствием наблюдаю за тем, как он смотрит на женщин. Если на пути его взгляда поставить стоваттную лампочку, уверен, она вспыхнет, а возможно даже и перегорит. Но сегодня он превзошел себя: когда он глянул на мою спутницу (надо отметить, что перед «выходом в свет» Портфелия более чем тщательно поработала над своей внешностью – макияж, прическа «Взрыв на макаронной фабрике», почти полное отсутствие кожаной юбочки), у него даже челюсть отвалилась, а Портфелия инстинктивно потрогала верхнюю пуговичку кофточки, проверяя, не расстегнулась ли та.
– Офелия, – представил я.
– Точно, – простонал Джон.
– А это – Евгений Степанович…
– Можно просто: Джон, – уточнил он.
– Очень приятно, – потупила глазки Портфелия.
– Принес? – перешел я к делу.
– Да, ничего, – ответил Джон на какой-то другой, послышавшийся ему вопрос и закивал, не отрывая глаз от Портфелии. – Пока нормально.
Я хорошенько саданул его ногой под столиком, он подпрыгнул и, очнувшись, уставился на меня:
– Чего тебе?
– Принес, спрашиваю?
– Ну.
– Господи, ты, боже мой! Что – «ну»?
– «Ну» – значит, принес.
– Покажь.
Джон быстро смотался к низенькой эстраде и приволок оттуда дипломат. Из дипломата он извлек белую пенопластовую коробочку, открыл ее и вынул обещанное – японский, величиной с мыльницу диктофон «SANYO».
– Прелесть какая, – прошелестела Портфелия, трогая блестящую поверхность корпуса. Джон нажал одну из боковых клавишей.
– Сколько? – спросил я.
– Как договаривались – триста двадцать.
– Давай проверим, что ли.
– Джон пошевелил пальцами, а соответственно и клавишами под ними, и из-под его руки раздался мой сдавленный (а мне-то казалось, я спрашиваю небрежно) голос: «Сколько?» Джона: «Как договаривались – триста двадцать». Снова мой: «Давай проверим, что ли». Джон щелкнул клавишей «стоп».
– Порядок, – сказал я, вытаскивая из внутреннего кармана приготовленную пачку денег, – пересчитай.
– Неужели купишь? – сделала большие глаза Портфелия. Я хотел отшутиться, сказать что-нибудь такое, что сбило бы торжественность ее тона и еще более возвысило бы скромного меня, но персональный пижон, таящийся в каждом из нас, опередил меня:
– Ну конечно, Леля. В нашей работе – вещь незаменимая. На стороже твоем сейчас и испробуем.
– Да-а, – протянул Джон, добравшись до последней купюры, – «трудовая копейка». Бывает, считаешь, червончик к червончику льнет, да похрустывает. А тут – больше трояка бумажки нет. И те – как портянки.
Меня заело:
– Мы, понимаешь, Джон, лопатой деньги не гребем. Как некоторые.
– Что ли, как я? Когда это было?.. – скорчил он мину. – Нынче-то – дела безалкогольные. Это раньше «товарищ с Востока» шлеп об сцену четвертаком: «Генацвале, – дурачась, Джон произнес эту фразу с акцентом, – скажи, чтобы все слышали: эта песня – от Гиви. Для прекрасной блондинки за соседним столиком…» И так – раз пятнадцать за вечер.
– А сейчас? – участливо поинтересовалась Портфелия.
– А-а, – горестно махнул рукой Джон. – Сейчас для прекрасной блондинки им и рубля жалко. На зарплату живем. А она у нас… Но не это даже главное. Раньше – на работу, как на праздник. Придешь, люди – хмурые, одинокие. А к концу – веселые все, парами расходятся. Сердце радуется. А теперь? Как сычи. Только смотрят друг на друга. Суп жрут.
Портфелия огляделась и прыснула, прикрывшись ладошкой:
– Точно, суп!

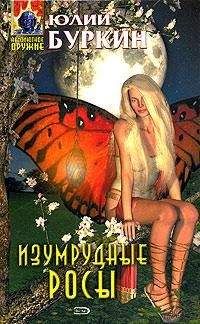
![Юлий Буркин - Мама, я люблю дракона… [Любить дракона]](https://cdn.my-library.info/books/55875/55875.jpg)
