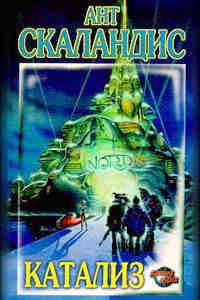Женька понимал умом, как все это плохо и даже ужасался, до чего живучи человеческие пороки – ведь это ж какой век на дворе! – но душа его, застигнутая врасплох, смятенная, взбудораженная, жаждала всех этих соблазнов, таких далеких всегда, таких недоступных, таких сладостно запретных; истомившаяся по порочным наслаждениям, душа рвалась на части от восторга предвкушения. Он боялся признаться в этом, боялся выдать свою похоть, свое нездоровое любопытство, свою тягу к мрачным тайнам жизни, но он знал, что теперь, в этом мире, ему будет доступно все. Рано или поздно, но он все получит, все попробует, все узнает. Спешить было некуда. И от сознания этого делалось внутри одновременно щемяще – сладко и – пакостно, стыдно, грязно. Ведь это, по сути, был плевок в лицо самому себе. И еще – шаг назад, к обезьяне. И еще – шаг в сторону, к безумию. И еще – малодушие, мелкое, мерзкое, гаденькое; дескать, можно бы и не делать, но отчего ж не сделать, если хочется…
И так они шли сквозь этот пестрый, шумный, пахучий, жаркий содом, и пот лил с них градом (они ведь были одеты по – зимнему), и Женька бледнел и краснел, и его била дрожь от этих реклам, и от этих женщин, и от своих собственных мыслей, когда Станский вдруг сказал злобно, сквозь зубы:
– Скучно. Прав Николай Василич. Скучно жить на этом свете, господа. Продрыхли века, а очнулись все в том же свободном мире по – американски. Будь он трижды проклят.
«Пижон, – подумал Женька. – Подумаешь, был на симпозиумах в Женеве и в Дортмунде. Америку в глаза не видел, а туда же – будь проклята! Небось, мечтал о ней всю жизнь – не вышло. А теперь втихаря слюнки глотает».
– Брось, Эдик, – не согласился Черный. – А ракетник? А самокаты эти на подушке? А весь этот город посреди океана?!
– А! – Станский махнул рукой. – Для кого? Для этих ублюдков? Что им, лимузинов с телевизорами мало было?
– Философы, вашу мать! – подал голос Цанев. – От имени медицины двадцатого века уверяю вас, что всякие рассуждения на голодный желудок характеризуются немотивированной злобой в отношении всех и вся. Я жрать хочу, братцы, а вы как – не знаю.
– А куда мы вообще идем? – поинтересовался Женька.
– Мы идем в «Полюс», – сказал Черный.
– А кто – то из нас знает, где он находится?
– стыдно, товарищ радист полярной экспедиции, не знать, где находится полюс.
– Ты хочешь сказать, что отель расположен аккурат в точке полюса?
– Уверен в этом. И если вдруг он окажется в другом месте, я позволю вам, Евтушенский, плюнуть мне в лицо.
Женьку не слишком прельщала возможность плюнуть в лицо Черному, но похоже было, что такой возможности у него и не будет. Подумав, Женька мысленно согласился с командиром. Идти точно в геометрический центр города – это была правильная идея. Во – первых, в центре издревле находилось что – то самое главное: цитадель, ратуша, храм, святыня, управляющий комплекс, в конце концов. Во – вторых, всем хотелось посмотреть на «земную ось» вблизи (почему – то они решили, что ось проходит сквозь башню до самого основания, хоть это и была явная глупость). Наконец, в – третьих, было интересно – просто как тест – не изменилась ли логика людей будущего настолько, что отель «Полюс» окажется размещен в стороне от полюса.
– И ты уверен, – спросил Любомир, – что в этой ночлежке светлого завтра нам дадут поесть?
– А Цаневу бы только пожрать, – буркнул Женька.
– И женщину, – поправил Цанев.
– В лучшем на весь город отеле не может не быть лучшего на весь город ресторана, – рассудил Черный.
– Кто знает, – усомнился Любомир. – От этих рукосеков можно ждать чего угодно. Так что я бы предпочел перекусить в ближайшей забегаловке. Видали, как их тут много?
– А чем ты думаешь платить? – поинтересовался Станский.
– Между прочим, – с гордостью сообщил Любомир, – у меня с собой десятка.
– У меня двадцать пять, – похвастался Женька.
– Идиоты, – сказал Станский. У него было рублей пятнадцать, а у всех вместе – около семидесяти. – Кому они здесь нужны, наши бумажки?
– Кто знает, – снова засомневался Цанев, – тут все так хорошо говорят по – русски…
– Если даже в ходу рубли, то не такие.
– Логично, Рюша, – Цанев согласился, – ну в отеле, что же, нас встретят, ты полагаешь, как родных, и не будут спрашивать этих самых нью – рублей?
– Не знаю, – огрызнулся Черный. – Просто нам надо в этот отель. И нету у нас других ориентиров в этом проклятом мире.
Женька никак не мог понять, отчего они так злятся, Рюша и Эдик. Да, странного и даже страшноватого обнаружилось много, но, черт возьми, все было жутко интересно. И была Крошка Ли. Женька вдруг очень отчетливо ощутил, что в нем сильнее всего, сильнее всех соблазнов и искушений его симпатия, его влечение, его страсть (он еще не решился сказать «любовь») к Крошке Ли. И теперь, когда роскошная, ошеломляющая пестрота города уже немного примелькалась, он снова думал о ней, только о ней, о прекрасной серебрянотелой девушке с пятого радиуса.
– А вот еще одна Крошка Ли, – сказал вдруг Любомир, и Женька вздрогнул, словно Цанев подслушал его мысли.
У входа в некое заведение, построенное в восточном стиле и с надписью только на хинди, собрав небольшую толпу зевак, красивая женщина с очень тонкой талией исполняла под индийскую музыку – и исполняла блестяще – танец живота. Конечно, Женька сразу понял, что это не Ли, но скафандр на ней был в точности такой же, и волосы были черные. А надо заметить, путники уже несколько раз встречали женщин в скафандрах, но ни разу они не были серебристыми, а все время цветными, более или менее прозрачными, и всякий раз, провожая взглядом их роскошные фигуры, Женька пытался догадаться, кто они: инопланетянки? пилоты дальних рейсов? охотницы за жемчугом?
Эта была танцовщицей. И танцевала она прекрасно. Все четверо невольно остановились и некоторое время смотрели на виртуозные, манящие таинственной прелестью движения.
– Жрать хочу, – напомнил Любомир.
– Тьфу на тебя, – сказал Черный и вдруг спросил: – Ребята, а помните Светку?
Вопрос показался глупым: кто так спрашивает о человеке, которого знаешь вот уже несколько лет и которого видел в последний раз месяц назад? Но потом, когда дошло, что ведь не месяц минул с тех пор, совсем не месяц, сделалось страшно.
– Померла давно наша Светка.
Это сказал Любомир, и в его циничной фразе, совсем не ставшей ответом на вопрос Черного, был весь ужас их положения и все пренебрежение к этому ужасу. И Женька понял, что Любомир прав, что говорить об утраченном прошлом можно теперь только так – грубо и просто – или не надо говорить вовсе.
Танцовщица меж тем закончила, наверно, она была зазывалой, многие зрители потянулись внутрь, а они четверо пошли дальше, и Женька, вернувшись мыслями к Крошке Ли, вслух предположил: