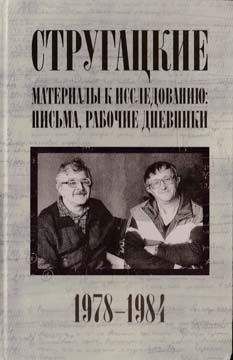— Слушай, Антон, — говорит он с яростью. — Только не заводи все сначала. И учти, пожалуйста, что я сейчас нахожусь на заседании Государственного совета и вышел на пять минут в уборную…
— Александр Васильевич, — говорит Румата, — вы сказали, что я стал хуже работать. Вы спрашиваете меня, может ли Будах быть уже убит. Да! Я стал хуже работать. Да! Будаха, может быть, уже убили. В Арканаре все переменилось![97]
Все выглядит так, будто дон Рэба сознательно натравливает на ученых всю серость в королевстве. Если ты умен, образован, говоришь непривычное, просто не пьешь вина, наконец, ты под угрозой. Любой лавочник вправе затравить тебя насмерть. Сотни и тысячи грамотных людей объявлены вне закона, их ловят штурмовики и развешивают вдоль дорог. Нормальный уровень средневекового зверства — это вчерашний счастливый день Арканара. Теперь уже никого не судят. Времени не хватает, и золото теряет цену, потому что опаздывает…
Дон Кондор при слове „золото“ говорит: „Продолжай, продолжай, я слушаю“. Он поднимается и идет в чулан. Румата, продолжая говорить, идет за ним.
— В Арканаре очень плохо, Александр Васильевич. Надвигаются какие-то события. По-моему, дон Рэба готовит государственный переворот. Бароны совершенно распоясались. Арата Горбатый опять собрал армию и собирается напасть на столицу…
Пока он говорит, дон Кондор с электрическим фонариком разбирает в углу кучу хлама. Там стоит полевой синтезатор, и дон Кондор включает его, загребает лопатой опилки и бросает в приемную воронку. Затем подставляет под желоб ржавое ведро. Из вывода приемника начинают сыпаться золотые монеты. Отец Кабани из другого угла, открыв рот, смотрит на них.
Потом осторожно подбирается к синтезатору, присаживается на корточки, хлопает себя по коленям и восхищенно крутит бородой.
— Все это я знаю, Антон, — говорит дон Кондор. — Перевороты, бароны… Ты же историк, Антон. Радуйся, ты видишь все это своими глазами. Не давай волю эмоциям. Ни на секунду не забывай, что ты глаз Земли на этой планете. Глаз! — Он стучит Антона по изумруду на лбу, — А не сердце и тем более не руки.
Нас здесь двести пятьдесят землян на этой планете, самые опытные живут уже двадцать лет. Вначале им было запрещено вообще что бы то ни было предпринимать, они не имели бы права даже спасти Будаха, даже если бы Будаха пытали у них на глазах, представляешь?
— Не говорите со мной, как с ребенком.
— Ты нетерпелив, как ребенок. Ты историк! Для нас единица времени не секунда и даже не год, а столетие.
— А пока мы будем выжидать, примериваться да нацеливаться, звери будут ежесекундно убивать людей.
— Антон, во Вселенной тысячи планет, куда мы еще не пришли и где история идет своим чередом.
— Но сюда-то мы уже пришли!
— Да, пришли. Но для того, чтобы помочь этому человечеству, а не для того, чтобы утолять свой справедливый гнев. Если ты слаб — уходи. Здесь нужно уметь ждать. Нам, может быть, придется ждать сто лет, пока мы не найдем абсолютно верный и безошибочный путь…
— Вы мне опять читаете мораль, Александр Васильевич, и, значит, опять не понимаете меня.
— Да что там тебя понимать? По-твоему, дон Рэба задался целью уничтожить интеллигенцию? Это же вздор! Это теоретически не оправдано даже на этой ступени… Ну хорошо, в конце концов, ты не обязан действовать только как историк.
Действуй как благородный дон! Свали дона Рэбу! Ты же проходил в институте курс феодальной интриги. Вот и действуй, но это ничего не изменит, уверяю тебя! Ты лучше Будаха найди. О твоем доне Рэбе забудут через пятьдесят лет, а такие ученые, как Будах, светят через века!
— Хорошо, я найду Будаха… оставьте Будаха мне и постарайтесь лучше меня понять…
<…> (Дон Рэба в пыточной камере. При свете факелов он сидит, вытянув шею, за столом с бумагами и смотрит, как палачи отливают водой пытаемого. Затем машет рукой, кричит приказание, и серые втаскивают в камеру следующего — в изодранной дворянской одежде.)
Румата отходит от окна и ложится на кушетку, закинув руки за голову. Ведь он же бездарен. Что бы он ни задумывал, все проваливается. Он начинал войны и всегда их проигрывал. Он затевал реформы и довел страну до нищеты. Теперь он затеял эти серые роты штурмовиков на больших дорогах. За Гитлером стояли монополии. Но за Рэбой не стоит никто, и очевидно, что штурмовики в конце концов сожрут его, как муху. Но он продолжает крутить и вертеть, нагромождать нелепость на нелепость, словно старается обмануть самого себя, словно не знает ничего, кроме сумасшедшей задачи — истребить культуру. А может быть, он просто мелкий пакостник? Из тех, которые всю жизнь убивали на уязвление ближних, плевали в чужие кастрюли, подбрасывали толченое стекло в чужое сено. И ему нет дела до исторической теории. Его сметут, но он успеет вдосталь наплеваться, нашкодить, натешиться…
(В опочивальне короля какой-то дворянин обличает дона Рэбу. Он разгорячен, кричит, размахивает руками. Король тупо смотрит на него мутными глазами. Дон Рэба извиняюще улыбается. Потом король переводит взгляд на дона Рэбу, тот кланяется почтительно и дает знак. Из отдушины под потолком щелкает арбалетная стрела, дворянин валится, корчится на полу, король радостно хлопает себя по жирным ляжкам — развлекается. Дон Рэба кланяется опять.)
Румата устало закрывает глаза.
Теперь вот ему понадобился Будах. Снова нелепость. Снова какой-то дикий выверт. Будах — знаменитый книгочей.
Книгочея — на кол. С шумом, с помпой, чтобы все знали… Но шума и помпы нет. Значит, нужен живой Будах. Зачем? Неужели Рэба настолько глуп, что надеется заставить <…>
<…> Что же, вы решили просто позабавиться?
— Вы не поймете меня, — устало говорит Румата. — Я вам двадцать раз пытался объяснить, что я не бог, но вы так и не сумели этого понять. И вы никогда не поймете, почему я не имею права помогать вам, как вы говорите, по-настоящему.
— У вас есть молнии?
— Я не могу вам дать молнии.
— Я это слышал уже двадцать раз. Сегодня я наконец хочу услышать почему.[98]
— Я повторяю: вы не поймете.
— А вы попытайтесь.
— Что вы собираетесь делать с молниями?
Арата начинает говорить. Лицо его темнеет от прилившей крови, становится жестоким и страшным.
Крестьянская армия осаждает могучий средневековый замок.
Арата на краю рва среди падающих стрел стреляет из скорчера[99] в стену. Ослепительная лиловая вспышка, стена лопается, валятся башни. С чудовищным ревом поток людей, вооруженных косами и самодельными копьями, врывается в пролом.