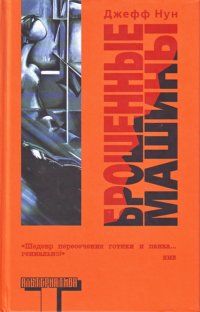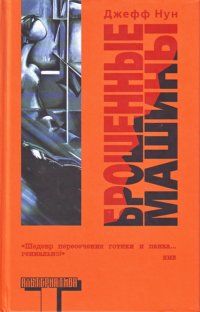Самая ценная составляющая.
А потом я вспоминаю Анджелу. Все эти таблетки, инъекции, как препарат течет в трубке капельницы — словно в замедленной съемке. Жидкость в ее барокамере. Постоянный приток препарата, чтобы дать ей отсрочку.
Затуманенное сознание.
Это — все. Больше уже ничего не будет. Все бесполезно. Еще несколько месяцев жизни, а потом — недель жизни. Дней жизни.
Часов, минут и мгновений. Все…
Я не знаю, может быть, это неправильно, но, как бы там ни было, эти люди дают нам отсрочку. Такие, как Тапело. Эти одинокие люди, которых так мало.
Я прикоснулась к ее руке.
— Что?
— Слушай…
— Что там у вас происходит? — спросила Хендерсон.
— Я хочу ей рассказать.
Хендерсон не обернулась к нам. Она только хмыкнула и покачала головой.
— Что рассказать? О чем? — спросила Тапело.
— Дело твое, Марлин, — сказала Хендерсон. — Мы тут вообще ни при чем, только, как говорится, за ради денег.
— Каких денег?
— Больших денег, девочка. Ты столько в жизни не видела.
Мы выехали на эстакаду над промышленной зоной: большие здания без окон, автостоянки, складские ангары. Рваные клочья дыма. Все — бесцветное, тусклое. А вдалеке — стеклянный фасад офисной башни, сжимающей небо в холодных объятиях.
— Так что ты хотела мне рассказать? — спросила Тапело. Я посмотрела на нее.
— Есть один человек. Его зовут Кингсли.
— Да, это я уже знаю.
— Я брала у него интервью для журнала. Так мы с ним и познакомились.
— И этот Кингсли…
— Коллекционер.
Тапело на секунду задумалась.
— Ага. И что он коллекционирует?
— Да разные вещи. Диковины, хитрые изобретения. Зеркала…
— А он что, красивый мужчина?
— Дело не в этом…
— Значит, он сумасшедший?
— Сумасшедший?
— Ага, — сказала Тапело. — Это такой сумасшедший красавец, который только и делает, что целыми днями смотрится в зеркало. И по ночам тоже.
— Нет. Он не сумасшедший…
— Ну еб твою мать, — сказала Хендерсон. — Чего тут рассказывать? У нас есть работа, и мы ее делаем.
— Да ладно, Бев, — сказал Павлин. — Все очень непросто.
Мы слегка сбавили скорость, чтобы нас обогнал грузовик доставки. Впереди машин было больше — они выезжали на автостраду с подъездной дороги. Водители психовали, машины сигналили. Клочья дыма подплывали все ближе.
— Кажется, я пропустил нужный съезд, — сказал Павлин.
— Что? — сказала Хендерсон.
— Я не знаю…
У меня перед глазами стояла мутная желтая пелена, которая дрожала, как пламя.
— И вчера вечером, — сказала Тапело, — это зеркало…
— Да, это тоже часть нашей работы, — сказала Хендерсон.
— Это особое зеркало, да? Не простое?
— Ага. Непростое — очень верное определение. Спроси у Марлин.
И тогда девочка прикоснулась к моей руке. Я уверена, что так и было. Она протянула руку, и прикоснулась ко мне, и, может быть, что-то спросила. Но теперь я могла сосредоточиться лишь на дороге, где машины и дым. И предупредительные огни на сигнальных мостах над шоссе. И желтое пламя перед глазами, что пульсировало и дрожало в своем собственном ритме.
— Осторожнее, — сказала Хендерсон.
— Я осторожно, — сказал Павлин.
Машины заполнили всю автостраду. Кто-то ехал гораздо быстрее, чем положено. Кто-то еле тащился — как мы. И я вдруг поняла, что никто на дороге не едет с нормальной скоростью. Причем медленные и быстрые не уравновешивали друг друга; эти два противоречия вступали в конфликт, бились, сталкивались, скрежетали.
— Блядь.
— Павлин…
Я периодически выпадала из зримой реальности, как будто мои глаза закрывались и открывались сами по себе. Машины менялись местами, но я не видела, как это происходило.
— Смотри, куда едешь!
Не было ровной дороги, мир стал зернистым, он как будто крошился, беззащитный, открытый, жестокий — мир крупным планом, — и машину занесло, и протащило через две полосы, когда руки Павлина сбились на руле, и нас закружило, и унесло прочь от себя.
* * *
Тело Анджелы, ее очень красивый гроб, ее волосы, кожа, ее кости и плоть — сейчас все отправится в печь крематория. Маленькая церквушка. Лицо моей матери смято болью, вне досягаемости; и пустота рядом с ней — там, где должен был стоять мой отец. И мой муж, через проход от меня. Такой далекий. Черный занавес отъезжает в сторону, возвращается на место. Закрывается. Вне досягаемости. Я не знаю, что это было, но я действительно чувствовала, как во мне что-то сгорает. Вместе с ней.
Закрывается. В дыму, в пепле, во мне.
Вместе с ней…
Я не помню, что было потом. Дни слились в сплошное пятно. Ничто. Темнота. Все утонуло в шуме. А потом, где-то через неделю после похорон, я очнулась перед дверью Кингсли — вообще без понятия, как я там оказалась. Мне вспомнилось, как я была здесь в последний раз. Наша прогулка по саду, по тропинкам среди деревьев. Церковная купель, зеркало, искрящееся под водой. Тогда Кингсли предложил мне работу, но я отказалась, хотя и не без сожаления, потому что мне было страшно. Я испугалась того, что открылось мне в той воде. Лицо, поднявшееся со дна, образ, который потом обернулся правдой, долгие недели болезни, Анджела, за последней чертой, куда я уже не смогу дотянуться, и никто не сможет…
Мое лицо, все в слезах.
И вот теперь я опять пришла к Кингсли. Он провел меня и маленькую гостиную. Занавески на окнах были плотно задернуты. Было темно. И очень тихо. На столе стояла большая деревянная рамка. В нее были вставлены те немногие осколки зеркала, которые Кингсли уже собрал: они словно ждали своих отсутствующих соседей. И голос Кингсли из сумрака. Голос, который шептал о любви. К тому, что заключает в себе это зеркало. Тайна. Обещание чуда.
Хендерсон не знает всей правды. И Павлин тоже не знает. На самом деле. А девочка знает и того меньше. Я кое-что им рассказала — надеюсь, достаточно, чтобы им не захотелось знать больше. Я бы и не смогла рассказать им больше, потому что я тоже не знаю всей правды.
Осколки стекла, нитрат серебра, отражения, которые видно отчасти, если смотреть под определенным углом. Разбитое зеркало. Украденные фрагменты, разделенные, проданные, перепроданные, ставшие причиной раздоров, потерянные, обретенные, снова потерянные, теперь разбросанные по всей стране. Сто осколков, как называет их Кингсли, и у каждого — разные свойства. Он объяснил мне, что это можно представить как магическое заклинание, расчлененное на отдельные составляющие. Крошечные сокровища, с которыми никто не захочет расстаться по собственной воле, пусть даже они заражают тебя печалью. Печалью, что родилась в то мгновение, когда зеркало раскололось. Кингсли говорил о зеркале так, будто оно живое, и чувствует боль, и его можно ранить, его уже ранили. А теперь его надо спасти, исцелить. Кингсли расскажет мне, где искать недостающие части, и мне надо просто найти их, забрать и вернуть в этот дом, в эту комнату, в эту простую деревянную рамку, где сейчас переливаются тени, подкрашенные фиолетовым.