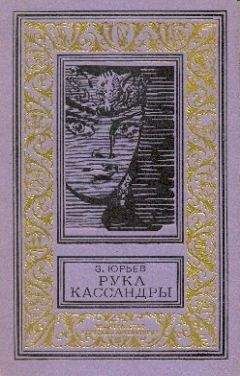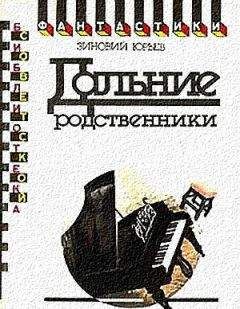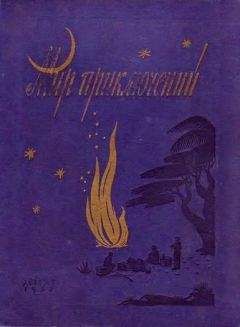— Видишь ли, друг Одиссей, — кротко объяснял итакийцу Паламед, — Полит сказал нам, что ты уже пашешь второй день, а борозды провел всего три… Кроме того, нетрудно было догадаться, как тебе не хочется уезжать от молодой жены. Поэтому-то я ни на секунду не беспокоился за жизнь твоего Телемака. Да и ты тоже, а?
Одиссей угрюмо бросил ручку плуга и посмотрел на Паламеда таким тяжелым и ненавидящим взглядом, что, казалось, тот должен был вспыхнуть, как вспыхивает от удара молнии сухое дерево. Все молчали.
— Пойдемте, — пробормотал наконец Одиссей и вытер краем хитона пот со лба.
В неловком напряженном молчании слышно было лишь, как медленно двигают челюстями бык и мул, пережевывая жвачку, и как пускает пузыри Телемак, прижимаясь к матери.
— Ну что же вы стоите? — еще раз повторил Одиссей и зашагал к дому.
— Так это ты так хотел надуть нас, царь! — грохнул смехом Агамемнон. — Ну и хитер же! А мы-то уж и впрямь решили, что ты спятил. Если бы не Паламед, сроду не догадались бы…
Засмеялись и остальные, и даже Одиссей скривил рот, но взгляд оставался тяжелым.
— Может быть, и не нужно было этого делать, — задумчиво сказал Паламед, — в конце концов отправляться на войну должны лишь те, кто этого хочет иль кому стыдно остаться с женщинами, детьми и стариками…
— Ты мудр, Паламед, — сказал старик Нестор и положил руку на плечо эвбейца. — Видно, ты действительно любимец богов, если они тебе даровали такую мудрость. Но мудрость — это тяжкая ноша, и многих она уже раздавила…
— Э, царь, лучше быть раздавленным ношей мудрости, чем грузом невежества.
— Не знаю, Паламед, не знаю…
Прошли годы. Осада Трои все продолжалась, и уже стал Одиссей несравненным героем, равным и в хитроумии и в храбрости, а Паламед, все так же ссутулившись, задумчивой тенью скользил в лагере ахейцев. Хоть и не уклонялся он от рукопашных схваток, не кланялся троянским стрелам и не показывал врагу спину, но душа его была по-прежнему обращена не к воинским подвигам, а к трудам умственным. Он изобрел и воздвиг на Сигейском мысу маяк, чей мерцающий огонь безлунными ночами указывал путь греческим кораблям, научил людей цифрам и буквам и лечил раны, которые раньше обрекали воинов на мучительную смерть. Он прикладывал к ним плесень, и, словно по волшебству, они очищались от гноя и зарубцовывались мягкой розовой кожей.
Он не любил бывать на пирах у вождей, а когда же все-таки приходил, то не хвастал, как другие, не старался перекричать соседа, а отрешенно смотрел на лоснившиеся от жирного мяса губы, на влажные от пролитого вина бороды.
Высокий, худой, он молча сидел в углу, а когда ему кричали: «Эй, царь, чего молчишь, как девица?» — он лишь смущенно улыбался и старался пересесть в тень.
Его любили и почитали, особенно простые воины. И в почитании не было страха, а было лишь изумление перед мудростью, и это почитание тяготило эвбейца, который с годами становился все задумчивее и задумчивее и все чаще искал уединения.
С грустью глядя на погребальные костры, которые все продолжали полыхать в стане греков, он говорил:
— А умно ли мы поступаем, продолжая осаду? Столько лет, столько смертей и горя, и все из-за одной женщины… Стоит ли ее красота стольких жертв? И не становится ли красота гнусным уродством, если за нее платят кровью и страданиями?
Его слушали, потому что его слова были просты и исполнены раздумий, понятных каждому. К нему шли за, советом, ибо он никого не прогонял и ни над кем не смеялся.
И вот тогда вдруг Одиссей обвинил его в предательстве. Тот же горбун Эврибат, глашатай Одиссея, перехватил письма, якобы написанные Паламедом Приаму, и золото, плату за измену, тоже нашли в шатре эвбейца. И тогда тоже говорил Одиссей без гнева, как бы жалея товарища, и как теперь, тогда тоже все сидели и хмуро молчали.
И он, Синон, друг и ученик своего царя, сидел и молчал. И один раз всего, когда Паламед молча посмотрел на него своим кротким взглядом, бесконечно печальным и в котором не было ни гнева, ни страха, ему вдруг нестерпимо захотелось вскочить на ноги и закричать, срывая голос: «Люди, да вы в своем ли уме? Да как вы можете поверить этому чудовищному наговору?».
Но он не вскочил и не закричал. Ведь Одиссей, многомудрый Одиссей, лев в сражениях, читал письма и показывал золото. Доказательства… И другие тоже молчали. Кто хмуро опустив глаза, кто жадно вглядываясь в человека, которому оставалось жить минуты. Где-то прошмыгнула у него в голове, проскочила мысль о том, что все эти письма могли быть написаны самим Одиссеем, но он не удержал ее. Ведь тогда нужно было бы встать и обвинить Одиссея, самого Одиссея, царя и героя. Или сказать себе: я трус и предаю своего царя и друга.
О, насколько проще было поверить Одиссею — ведь у того были доказательства, письма и золото, найденные горбатым Эврибатом в шатре Паламеда. И он поверил. Поверил с радостью, ибо вера очищала его, снимала с него бремя сомнений, жизнь с которыми была бы так тяжела.
Боже, как горят запястья рук от ремней! Смочили их, что ли, перед тем как закрутить ему за спиной руки, что они так врезаются в кожу. И все тот же муравей — а может быть, и другой? — ползет по пыльному комку сухой земли. И как жестоко жжет его солнце, расплавленную бронзу оно выливает на него, и язык — разве это его язык, этот сухой, шершавый обрубок? — едва помещается во рту.
— Пить… — хрипит он.
И стражник, все продолжая ковырять между пальцами ног, сонно бормочет:
— Не подохнешь, подождешь…
…И вот Паламед стоит на отмели, за спиной его бесконечный шорох волн Геллеспонта, а слева, вдали, виден маяк, построенный им. И у него тоже были связаны руки за спиной, но впервые за долгие годы он не сутулится. Он расправил плечи, и Синон впервые замечает, какие они у него широкие. И глаза он больше не опускает, а смотрит прямо на Агамемнона, который медленно выбирает из кучи камень потяжелей, на Менелая, у которого дрожат руки, долго смотрит на Нестора. Тот отводит глаза, хмуря седые кустистые брови. Смотрит на него, на Синона. Смотрит с едва заметной печальной и всемудрой улыбкой, прощающей и грустной улыбкой. И Синону кажется, что тот знает о мысли-змейке, прошмыгнувшей у него в голове. И тогда Синон — он ли это? — издает глухой рев, хватает камень и с воплем «смерть предателю!» бросает в него. Камень страшно шмякает в бедро эвбейского царя, и он судорожно кланяется, чтобы не упасть. В глазах его мелькает на мгновение ужас и тут же вымывается гордым и печальным блеском.
— Увы, истина умерла раньше меня, — шепчет он.
Размахивается и швыряет камень Одиссей. Меткий бросок, сильный. Тверда рука у итакийца. И лоб его так же блестит от пота, как тогда, много лет назад, когда останавливал он упряжку перед лежавшим на мягкой земле сыном. Меткий бросок, сильный. Паламед уже лежит, и пальцы царапают песок прибрежной отмели. И не то с криком, не то со стоном поднимает огромный камень гигант Аякс Теламонид и швыряет в голову Паламеду. И больше пальцы не цепляются за песок. Тишина. Шуршат волны Геллеспонта, тонкой свечой тянется к небу маяк на Сигейском мысу, тяжело дыша и вывалив языки, ползут по песку к трупу шелудивые псы, не спускают глаз с тела, желтых голодных глаз.