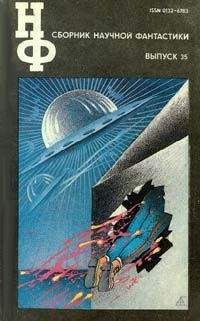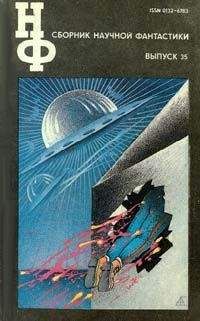а «гвоздь» и в самом деле взвывал, и скафы действительно бежали, и хорошо, когда не к тебе, а к другому, и в большинстве случаев обнаруживалось, что тревога ложная, потому что «гвозди» эти, эти чертовы волмеры, вопят почем зря, но, знаете ли, уж лучше пусть они повопят впустую, чем промолчат, когда надо вопить, а ведь и такое случалось.
Если не считать Томеша, в Сантаресе к тому времени находилось шестьсот пятьдесят пять необнаруженных импатов большей частью с нулевой и первой стадией; вторая была у сорока человек, третья — у двоих. Только эти сорок два по-настоящему требовали изоляции или даже уничтожения и только двое были стопроцентно обречены.
ДАВИН
…Кон Давин (двадцать два года, третья стадия) несколько дней назад чудом избежал захвата и теперь скрывался на втором подземном горизонте Сантареса, где располагались заводы текстиля и продуктов питания, — здесь практически никогда не появляются люди. Болезни его исполнилось двадцать дней. Он уже пережил первый пароксизм ярости и теперь ожидал второго. Тотальный поиск застал его вдали от вентиляционной камеры, где он отсиживался последние двое суток. Голод и жажда выгнали его из убежища. Четвертый пищевой завод, куда он сейчас направлялся, был недалеко, импат уже попал в тоннель, по которому двигался конвейер с пустыми упаковками — когда-то робот-планировщик счел целесообразным разместить производство продуктов и упаковок на разных горизонтах, и теперь эти две точки соединяла длинная извилистая нора, практически никогда не освещаемая. Но Кону это не мешало. Он прекрасно видел в темноте. Конвейер двигался слишком медленно, и большую часть пути Кон летел.
Тоннель неожиданно кончился большим залом с множеством ниш и входов в другие коридоры, а конвейер с упаковками (и в этом заключалось самое спазматическое, как сказал себе Кон) ушел вдруг в пол, в узкую холодную щель, через которую не мог бы протиснуться и ребенок.
Даром предвидения импат владел всего несколько часов, да и то в небольшой степени. К тому же в прежней жизни он был весьма логический человек, поэтому интуиции не доверял интуитивно. Захлебываясь в мыслях, он теперь метался по залу, пытаясь определить, какой именно из тоннелей приведет его к Четвертому заводу. Кон постанывал от голода. В одной из труб журчала вода.
Внезапно труба закашлялась, и в тот же миг шуршание конвейера смолкло. Стихли и другие шумы, отдаленные и смутные. Все остановилось и начало остывать.
— Что-о?! — закричал Кон. — Что такое?!
Входы стали бесшумно закрываться чуть подрагивающими металлическими плитами. Кона бросило в дрожь. Он ничего не понимал, все эти приготовления пугали его, хоть и не верил он в дар предвидения. Потом в центре зала с легким хлопком что-то разорвалось (застыл, вытаращил глаза, похолодало, и темнота сгустилась вокруг), и на полу, словно фантастический болотный росток, вырос пыльно-красного цвета «гвоздь», теплый кошмар из детства.
«Гвоздь» вспыхнул ярко-красным цветом, заболели глаза, поворчав, взвыла сирена. Кон отскочил от «гвоздя», и вой стал тише. Потом с лязгом и скрежетом (запланированным!) раскрылся вход в один из тоннелей, и Кон, чувствуя, как забурлили в нем ярость и страх, ринулся туда. Но там тоже полыхал «гвоздь», и снова пришлось зажмуриться. Грохоча, плита опустилась за ним. Снова сирена, теперь уже впереди.
— Ведут меня! Ведут! — кричал Кон.
МАЛЬБЕЙЕР
…снова подобрел.
— Ах, дорогой друг гофмайор, — вещал он. — Не обижайтесь вы на меня. Вы должны быть счастливы, я создал для вас такую ситуацию.
А Свантхречи ревел, как стартующая ракета, и уже не находил слов для негодования. Оказывается, это был очень неуравновешенный человек. Чем больше он неистовствовал, тем больше успокаивался Мальбейер, тем больше обретал самоуверенность и наглость — не внутреннюю, не ту, что была с ним всегда и только прикрывалась рогожкой лебезения, а и внешнюю тоже, замешанную на доброй улыбке, но нахрапистую, прорисованную в каждой черточке лица, в каждом изгибе тела, в каждом движении.
— Да вы успокойтесь, друг Свантхречи (ах как коробило гофмайора такое обращение!). Вот я вам сейчас все объясню. Предположим, как вы говорите, импата мы не поймаем.
— Но ведь вы же не знаете ничего, ведь того, что с этим со всем связано, и подслушать-то невозможно! А вы со своими картонными играми. Все гораздо серьезнее!
— Так вот, предположим, он от нас ушел. Что, как вы сами утверждаете, не так уж невероятно.
— Не так уж невероятно! Да почти наверняка так! Скафов на тотальный поиск не хватает, половина не обучена… Да полиция нас просто съест!
— Значит, нам надо съесть ее раньше. Не забудьте, я там служил и прекра-а-асно знаю их повадки и слабости.
— Как вы это себе представляете? — с презрением, но уже несколько тише бросил Свантхречи.
— Мы будем задавать вопросы. Кто ополовинил состав СКАФа, кто лишает нас власти, кто требует от нас подчинения, кто, наконец, восстанавливает против нас город? Кто, как не полиция, виноват в сегодняшнем инциденте?
— Но ведь не они же!
— Это мы с вами знаем, а они — нет. Причем атаковать сейчас, во время облавы. Принудить их к содействию. Чтобы не они нами командовали, а мы ими. И тогда…
— Бред. Наивный и непрофессиональный…
— И тогда с их помощью мы ловим импата. С большим, заметьте, трудом. Причем не столько благодаря, сколько несмотря на…
— А если не поймаем?
— Полиции неизвестно, какого импата мы ловим. Их в городе не меньше сотни.
— Но ведь эти импаты не в предсудороге!
— А уж это мы будем определять. Полиции придется поверить на слово.
Свантхречи задумчиво прошелся по кабинету, остановился за спиной Мальбейера, тот запрокинул голову, чтобы видеть лицо начальства, и от этого поза грандкапитана, удобно сидящего в кресле, с задранным кадыком, с привычно умильной миной, стала до того наглой, что Свантхречи с трудом подавил желание плюнуть в его опрокинутые глаза. Он был молод еще для большого начальника, этот Свантхречи. Он сказал, то ли спрашивая, то ли утверждая:
— Значит, подлог?
— Увы! — Мальбейер юмористически развел руками и, не удержавшись, упал вместе с креслом к ногам гофмайора.
ДЕЛАВАР
…Джеллаган Делавар, тайный импат-нулевик со стажем два года, носил старомодную сплошную вуалетку, которую можно было не снимать в местах, где ношение шлемвуала считается неприличным. Если бы он хоть раз попался в руки к скафам, то был бы тут же отпущен — слишком незначительной была степень его болезни. Но Джеллаган был старик в высшей степени недоверчивый, тем более что ходили слухи, будто сейчас импато нулевой стадии излечивается, а как раз этого он и не хотел, так как болезнь приносила ему много радостей.