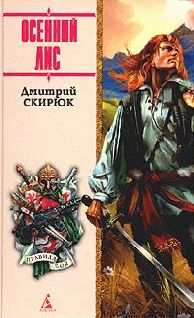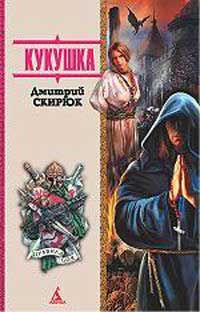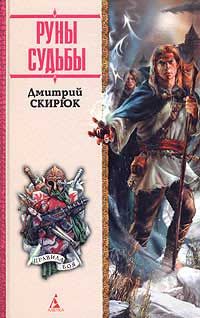Надо сказать, папаша Норберт вообще не отличался тактом и был скуп на похвалы. Критически оглядев готовый холст, он хмыкнул, пробурчал: "Мазня, конечно, но за пять флоринов грех требовать чего-то большего" и посоветовал тащить его быстрее к бургомистру, "пока краски не осыпались".
- Вот видишь, - сказал он, старчески кашляя в ладонь и кутаясь в суконную, заляпанную красками хламиду. - Не зря я тебя тогда этюды с мельниц заставлял писать. А ты артачился: "зачем, зачем", шестую, дескать, мельницу рисую. Никогда не знаешь, что в жизни пригодится. Слушайся отца, человеком станешь. Ну, чего встал? Или ждёшь, что деньги тебе на дом принесут? Давай, бездельник, собирайся.
Бенедикт достаточно хорошо знал своего отца и прекрасно понимал, что работой сына тот доволен безмерно, а потому, откушав утром карпа с пивом, нарядился в праздничное платье и отправился до бургомистра.
Норберт же ван Боотс, едва за сыном призакрылась дверь, потирая руки двинулся на кухню, где его жена уже раскочегарила плиту.
- Собирай на стол, Хедвига, - с плохо скрываемым торжеством в голосе пробурчал он, - праздновать будем. Сын у тебя художником растёт.
На площади у ратуши царили тишь, покой и благодать. На миг парнишка задержался у дверей, перехвативши поудобнее картину. "Как всё-таки мне нравится наш старый добрый Гаммельн, - с несвойственной для его возраста нежностью вдруг подумалось ему. - Когда-нибудь я выберусь на холм, который на востоке, и попробую написать вид города оттуда. Это будет мирная и очень тихая картина. Да, очень тихая картина очень мирного города".
Бенедикту казалось, будто на него все смотрят, хотя на деле редкие прохожие не обращали на него никакого внимания. По выбитой брусчатке мостовой бродили голуби, выискивая крошки. Бенедикт постучался, сообщил привратнику, кто он такой и для чего пришёл, и был допущен на второй этаж до кабинета бургомистра.
Герр Томас Остенберг когда-то был румяным, пышущим здоровьем толстяком, но с возрастом обрюзг, стал рыхлым и оплывшим. Нос его был переломан - следствие давнишнего, почти что легендарного паденья с высоты, когда однажды в старом доме бургомистра на втором этаже вдруг провалился пол. Когда Бенедикт вошёл в кабинет, герр Остенберг вёл там некую приватную беседу с каким-то монахом, судя по одежде - доминиканцем. Монах был невысоким, круглолицым, с .тонзурой, переходящей в лысину, и всё время улыбался. Впрочем, оглядевшись, Бенедикт понял, что ошибся - монахов было двое: в уголке сидел ещё один - парнишка лет четырнадцати с чернильницей на поясе и цилиндрическим футляром для бумаг и перьев. В окошко бился лёгкий ветерок, колыша занавески. На столе стояли фрукты и вино.
- А, вот и наш художник, - бургомистр поставил на стол пустой бокал. Весьма кстати, мой юный друг, весьма кстати. Э-ээ... Вы очень вовремя пришли - отец Себастьян как раз расспрашивал о вас.
- Весьма польщён, - Бенедикт ван Боотс снял шляпу, отвесил двум священникам поклон и огляделся в поисках какой-нибудь подставки для картины. - Куда прикажете поставить?
- Э-ээ... пока что - никуда. А вот бумагу разверните.
Бенедикт послушался. Некоторое время все сосредоточенно рассматривали картину. Наконец герр Остенберг откинулся назад и удовлетворённо кивнул.
- Ну что же, сходство наблюдается, - сложив ладони на округлом животе, заметил он. - Наблюдается э-ээ... сходство. Я вижу, вы не посрамите имя своего отца. Батюшка не помогали рисовать?
- Ну, что вы, - Бенедикт насупился и покраснел варёным раком, - как можно...
- Хе-хе, шучу, шучу... - толстяк протянул руку к кувшину. - Вина, молодой человек?
- Благодарю. С огромным удовольствием.
Вино из Мозеля янтарной струйкой полилось в подставленный бокал. Бенедикт пригубил, сделал два глотка и воспитанно отставил бокал прочь. От волнения и с непривычки у него зашумело в голове.
- Скажите, сын мой, - впервые вдруг заговорил монах. Тон его был мягок, но при этом почему-то неприятно настораживал; вдобавок, в его речи прозвучал не сильный, но вполне отчётливый испанский акцент. Бенедикт вздрогнул и весь обратился в слух. - Скажите, вы ручаетесь, что это он?
- Святой отец, я же художник, у меня на лица память... - тут вдруг он поймал на себе взгляд пристальных монашеских глаз, сглотнул и торопливо закончил: - Да. Ручаюсь.
- Гм... - монах ещё раз с откровенным интересом взглянул на портрет. А хорошо ли вы тогда успели его разглядеть?
- У меня было достаточно времени, чтобы его запомнить: я видел его раза три или четыре. Два раза - очень близко, так, как вас сейчас.
- Вот как? Гм, похвально, молодой человек. Похвально. Ну что ж, - он повернулся к бургомистру, - пойдёмте прогуляемся, герр Остенберг? Как вы считаете, в свете некоторых новых обстоятельств? Тем более, что появился новый повод проведать нашего... подопечного.
Герр бургомистр сморщился - выглядело это как нечто среднее между брезгливой гримасой и улыбкой. С профессиональной наблюдательностью Бенедикт привычно "срисовал" черты и выражения их лиц. Все трое, казалось, были чем-то возбуждены. Мальчишка-секретарь за всё это время не проронил ни слова, сидел как статуя и даже не пошевелился.
- Ох уж, вы и скажете, брат Себастьян. Прогулка, - надо же! А может, обойдёмся?
- Я бы рад, но что поделать, - развёл руками тот. - Noblesse oblige. [Положение обязывает]
- Да, да... Ну что же, - бургомистр со вздохом встал и подобрал со стола перчатки. Поворотился к Бенедикту, сделал знак рукой: - Оставьте свой бокал, мой юный друг, берите картину и идёмте с нами. Это вам не повредит.
Спорить с бургомистром Бенедикт не решился.
- Не туда, юноша, - окликнул его на лестнице герр бургомистр, когда ученик художника направился на улицу. - Не к выходу. Идите за нами и не отставайте.
Далее началось нечто странное. По крайней мере, странное с точки зрения Бенедикта. Они свернули в неприметный закуток за лестницей, где бургомистр отворил ключом какую-то дверь и жестом пригласил всех следовать за ним. За дверью обнаружился гвард городской стражи, пусть без алебарды, бесполезной в узком коридоре, но зато в кирасе и с увесистым пехотным палашом; гвард встал навытяжку и отдал честь.
Ступени лестницы вели куда-то вниз. Потолок и стены закруглялись в свод, бурые камни покрывали плесень и селитра. Чадили масляные лампы. Бенедикт недоумевал всё больше, так не укладывалось это всё в привычную картину городского магистрата. Они спускались всё ниже, куда-то к городской канализации, когда вдруг своды лестницы сотряс ужасный крик, донёсшийся откуда-то из-под земли. Бенедикт выпустил из рук картину, развернулся и рванул через ступеньки вверх по лестнице, но почти сразу натолкнулся на большой и неожиданно тугой живот спускавшегося следом брата Себастьяна. Монах небрежно подхватил его, не позволив упасть, и ловко развернул обратно, даже не покачнувшись.