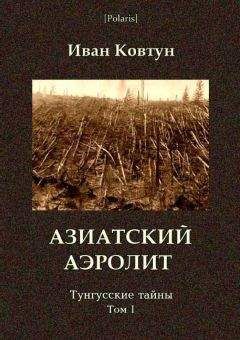К сожалению, а может, и к радости, дорогие читатели, о Мариче этого сказать нельзя. Мы оставили его без внимания с первого октября минувшего года, а сейчас уже начало мая, но за это время он ничуть не изменился. Высокий лоб его отнюдь не покрылся новыми морщинами, глаза вовсе не излучают грусть и скорбь. Некогда скучать, некогда испускать скорбные лучи, потому что все существо кипит напряжением и силой.
С третьего этажа «Метрополя» видна радостная, шумная площадь. Солнце растапливает последние кучки почерневшего снега. Видны счастливые (по причине весны и солнца) прохожие, видно, как на деревьях суетятся грачи, а на крышах, лихо распустив крылья, прыгают воинственные воробьи. На тротуарах кое-где уже мелькают клетчатые блузы задорных физкультурников.
Площадь радовалась запоздалой московской весне, не радовался только Марич. Он стоял у широкого окна, напряженно размышляя, проверял — сделал ли все, что наметил с утра. «Кажется, все, — в десятый раз думал он, — оружие, одежда, приборы, еда… еда… Что еще… Кажется, все. Да, все. Лишь бы Валентин Андреевич покончил с делами, и в путь».
Внизу на улице высокая знакомая фигура, держа под руку женщину и шагая озабоченно и широко (спутница едва успевала семенить за своим кавалером), пересекла трамвайные пути. Оба исчезли у центрального подъезда отеля.
Марич узнал Горского и пошел навстречу, к лифту. В последние дни ученик и учитель, занятые делами экспедиции, понимали друг друга без слов, и разговоры их обходились почти без вопросов.
Аккуратно подстриженный, с подрезанной, подбритой бородкой, профессор Горский казался еще более высоким и сухим. Пропуская вперед молчаливую Клавдию Марковну, он будто предчувствовал, что Марич встретит его и у самой дверцы лифта деловито сообщит:
Все в порядке, можно ехать.
У меня тоже все готово, но телеграммы от Аскольда пока нет.
Горский разделся, стал посреди номера и на минуту задумался, глядя поверх очков за окно. Марич выжидал.
Ученый смотрел на ясное небо с белыми стайками облаков, на залитые солнцем крыши Москвы. Затем недовольно мотнул головой.
Задержали нас, эх, задержали. Видите, что делается? Весна. Сегодня же необходимо выезжать, иначе все полетит к чертям. Аскольд пусть догоняет.
Горский посмотрел на удивленное лицо своего помощника, который словно бы спрашивал: «Как это так — догоняет?» Улыбнувшись, обратился к жене:
Клавус, наш дорогой Виктор Николаевич не знает Аскольда, — и, повернувшись к Маричу, добавил, — представьте себе создание, у которого при слове «путешествие» начинает течь слюна, рефлекс, так сказать. Мы оставим ему письмо… Не то и на этот раз придется обойтись без оператора.
Профессор вновь задумчиво посмотрел на ясное весеннее небо.
Да, надо спешить, иначе будет поздно. Весна запоздала, нужно считать даже не дни — часы. Профессор вспомнил далекую Ангару: тысячи километров протянулись в даль и тысячи мелких преград еще встретит экспедиция. Вот такие мелкие препятствия все время путаются под ногами. Они задержали его до самого мая в Москве, когда давно уже нужно было быть, по крайней мере, хотя бы в Тайшете.
Деньги, срочно ассигнованные еще в марте, учреждения каким-то образом умудрились выдать только вчера, и то лишь половину, и только сегодня — остальное.
Клавдия Марковна сидела в углу, примостившись на большом пакете, молчаливо и тоскливо глядела на своего любимого «мальчика».
Наряду с непомерной любовью она ощущала боль и волновалась больше него. Ее тревога была болезненней, беспокойней волнений ученого. И вот сейчас, когда он радуется победе, она тоскливо думает, что где-то там, в тайге, за тысячи километров от человеческого жилья, он будет самоотверженно тратить остатки своего здоровья, быть может, в грязи, в холоде, голоде, забыв о ней, а она в это время будет одиноко просиживать долгие вечера в пустом кабинете. Робкая ревность тихо сдавила сердце — глаза заблестели слезами. Горский посмотрел на женщину и, заметив слезы, быстро подошел, нежно обнял и удивленно сказал:
Клавусик, разве можно плакать, наша взяла, ты пойми: за Азиатским аэролитом еду, — и платком начал нежно утирать ее слезы.
За этим занятием их застал Марич, вышедший заказать грузчиков.
Ишь, на старости лет милуемся, — улыбнулся Горский и в шутку спросил: — А скажите, Виктор Николаевич, и по вам кто-то слезки проливать будет?
Марич в ответ мрачно улыбнулся.
Аскольду впервые в жизни довелось ехать (и так неожиданно) в международном вагоне.
Он пытался не упустить ни единого движения незнакомого гражданина и с точностью до одной сотой искусно копировал их. И как же, к чертям, не копировать, когда вокруг тебя все блестит, сверкает, а ты не знаешь, как с этим всем обходиться.
Рассматривая большие зеркала, мягкие диваны, электрику, умывальник, удобные полки, Аскольд удивленно и восхищенно думал: «Чего только не придумала наука и техника».
А товарищ уже спокойно разделся, небрежно забросил на полку чемоданчик и, закурив папироску, приветливо обратился к нему:
Может, познакомимся?
Аскольд засуетился, покраснел, торопливо заговорил, пожав протянутую руку:
Вот остолоп, так закрутился. Аскольд Горский.
Павел Самборский. В Москву?
Да.
По делам?
Собственно, не в Москву. В Сибирь. В Москве должен присоединиться к экспедиции в качестве оператора. Может, слышали, экспедиция на поиски Азиатского аэролита.
Конечно, слышал, прекрасная идея, завидую вам.
А вы москвич?
Как вам сказать, — и москвич и нет.
Интересно. А где же работаете?
Я разъездной корреспондент «Научной мысли», вот из Сванетии возвращаюсь.
А-а, — обрадовался Аскольд, — значит, и вы перелетная птица?
Как видите. — Самборский встал, одернул пиджак и спросил: — Конечно, не завтракали? Так, может, в ресторан пойдем?
Аскольд покорно и радостно согласился. Шагая позади статной фигуры своего нового товарища, который так неожиданно и бескорыстно спас его, Аскольд с присущей ему искренностью и легкомыслием окончательно решил, что молодой журналист парень свойский, в доску, и вообще прекрасный человек всесоюзного масштаба.
В ресторане Самборский занял уютный уголок и, взяв в руки меню и карту вин, лукаво спросил Аскольда:
Вы как, перед завтраком по рюмочке коньячку, а? Я грешным делом того… немного, иногда. Согласны?
Аскольд согласился.
Бутылку сараджевского, — компетентно бросил Самборский официанту, — лимон с сахаром.
Аскольд никогда не пил коньяка и поэтому с радостью согласился выпить, и грех было отказаться — ведь он всеми силами старался показать, что тоже не лыком шит.