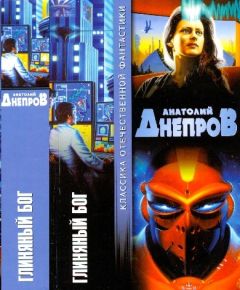— Он его вызвал?
— Профессор Фейт сам потребовал аудиенции. Он говорит, здесь на островах произошли какие‑то странные события. Да я и сама это заметила. Представляешь, перед посадкой в вертолет домой, на Овори меня подвергли самому настоящему обыску! И знаешь, кто этим делом там заправляет? Старый урод, которого я знаю еще с войны. Тогда он был майором. Его фамилия Сулло.
— Кстати, здесь еще один твой знакомый военных лет, Джеймс Семвол.
— Я знаю. Похоже на то, что они решили в миниатюре воспроизвести свою старую организацию! Зачем вся эта комедия?
Френк вспомнил разговор с Родштейном.
— Если бы только комедия. Впрочем, я уверен, что профессор сумеет поставить все точки над “и”. А пока забудем все это, Лиз!
Стало совсем темно. Разговор затих. Они просидели бы так до самого утра, если бы около двенадцати ночи внезапно не открылась дверь.
— Папа, это ты? — воскликнула Лиз.
— Да. Френк здесь?
От неожиданности Френк вздрогнул. Уж очень резок был голос профессора.
Вспыхнула люстра. Профессор Фейт быстро пересек гостиную, уселся в кресло.
— Я только что от Саккоро. То, что мне удалось узнать, привело меня в бешенство.
— В чем дело, профессор?
— Прежде всего, он заставил меня ждать около получаса. Как будто я какой‑то мальчишка. Негр слуга сказал мне, что господин Саккоро ведет важную беседу с военными господами. Из кабинета гуськом потянулась компания, выряженная в идиотскую одежду наших “вооруженных сил”. Я влетел в кабинет совершенно разъяренный. Он сидел за письменным столом. “Я вас слушаю, Фейт, — промычал он. — Только короче. Через час ко мне придут”. — “Хорошо, короче, так короче. Я хочу знать лишь одно: что происходит на островах? Почему здесь появились военные? Почему расставлены часовые? Почему моей дочери учинили обыск? Почему?” Он меня прервал, спросив: “У вас еще много “почему?” — “Пока достаточно!” — Я буквально задыхался от гнева. — “Потому, профессор Фейт, что я так хочу”.
— Он вам так и ответил? — воскликнул Френк.
— Буквально. Я даже потерял дар речи. Я хотел было еще что‑то сказать, но он в этот момент встал и зловещим голосом начал спрашивать меня: “Почему вы работаете так медленно? Почему до сих пор не получен главный результат? Почему русские нас во всем обгоняют? Почему вы не загружаете должным образом иностранцев? Например, этого Мюллера, которого мне так расхваливал Семвол?”
Представляете мое положение? Я не выдержал и просто заорал: “Наука и научные исследования — это не изготовление башмаков на конвейере! Ваши “почему” лишены смысла. Потрудитесь ответить на мои вопросы. Иначе вам придется подыскивать другого руководителя для продолжения исследований”. Он сказал: “А я сейчас об этом как раз и думаю”.
В вертолете я тщательно обдумал этот разговор. Мне начинает казаться, что здесь пахнет авантюрой, может быть, даже хуже… Я чувствую, что мне срочно нужно вылететь на континент и рассказать обо всем кому следует.
— Папа, милый, я начинаю бояться… Лучше не нужно на континент. Ведь если Саккоро… О, не нужно, прошу тебя!
— Чего ты испугалась? Должны же люди знать, что здесь делается.
К профессору подошел Френк.
— Не нужно торопиться, профессор. Работа в последнее время действительно застопорилась. Нужны какие‑то новые идеи относительно производства и хранения антивещества.
Фейт опустил голову на руки и уставился в пол:
— Почему бесится Саккоро?
— Просто потому, что он хочет быть первым.
Желая отвлечь профессора от тревожных мыслей, Френк заметил:
— А насчет Мюллера Саккоро, пожалуй, прав. Перед ним нужно поставить более серьезные задачи. Кстати, я даже не знаком с ним лично. Пожалуй, нужно будет в ближайшие же дни с ним встретиться.
— Как хотите, — неопределенно сказал Фейт. — Я чертовски устал, поэтому хочу вас покинуть. Спокойной ночи.
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
Молчанов и Самарский были единственными сотрудниками экспериментального отдела, которые посещали семинар профессора Соколова. Иногда они ходили и на семинар Котонаева, но, несмотря на блестящее изложение, остроумие и красоту теоретических построений, они чувствовали в молодом ученом что‑то от позерства. Решая сложные теоретические задачи, он прежде всего заботился о том, чтобы показать, как он может их решить.
У Соколова все было иначе. Говорил он монотонно, глуховатым голосом, редко отрывался от доски и только иногда посматривал на аудиторию, чтобы убедиться, что его понимают. Любопытно, что и Котонаев и Соколов обладали острым чутьем на тех, кто терял нить рассуждений. Котонаев, безошибочно определив непонимающего, обычно говорил так:
— Если вы, товарищ Разумное, в состоянии еще что‑нибудь понять, я могу, пожалуй, повторить.
При этом он бросал торопливый взгляд на часы и делал едва заметную брезгливую гримасу.
Обнаружив хоть тень непонимания, Соколов медленно поворачивался к доске и, выбрав чистый участок, писал на нем старые формулы и уравнения:
— Это действительно трудновато… Постарайтесь понять, что здесь мы должны нормировать функцию с учетом вот этой спинорной матрицы…
Но самым интересным в семинаре Соколова было другое. После окончания основного доклада он не торопился уходить, как Котонаев. Он присаживался за столом, тщательно вытирая руки, дружелюбно улыбался.
— Ну, а теперь про жизнь… Теории на сегодня хватит.
Эту, неофициальную часть семинарских Занятий молодежь института называла “квантовой теорией жизни”. Здесь говорить можно было всем, не стесняясь ни своих недостаточных специальных знаний, ни своего малого жизненного опыта.
Однажды после семинара, когда все стали расходиться, Соколов подошел к Молчанову и Самарскому и сказал:
— Будьте добры, останьтесь еще на несколько минут.
Ребята молча сидели за столом и наблюдали, как профессор Соколов тщательно вытирал доску, не оставляя на черной поверхности линолеума ни одной буквы, ни одного значка.
— Я вот о чем… Вы, кажется, посещаете и семинар Валерия Антоновича?
— Да, — ответил Коля.
— Мне, право, не очень удобно вас просить. Дело вот в чем… Я как‑то совершенно случайно зашел в аудиторию после его семинарского занятия. Меня немного смутило одно обстоятельство… Люди разошлись, а доска с записями Валерия Антоновича так и осталась. Правда, на ней было написано очень мало… Но вы понимаете…
Он смутился еще больше, как бы почувствовав, что слишком серьезно говорит о ерунде. Затем он заговорил быстро и взволнованно: