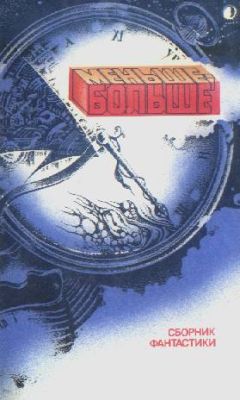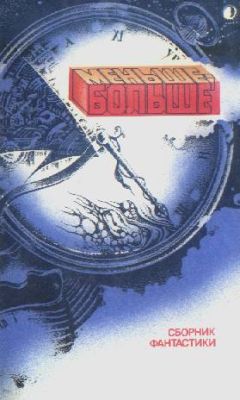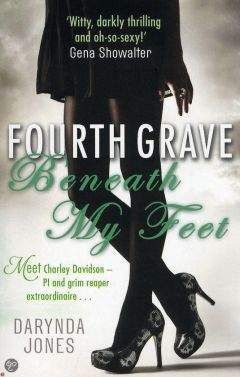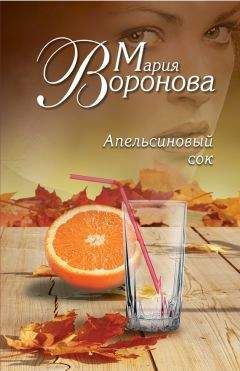Чарли выглядел таким удивленным, что я едва не рассмеялся, хотя мне было не до смеха.
— Ты слишком волнуешься, Чарли. И ты увлекаешься собственной аргументацией, на Роя это действует плохо. Доверь переговоры мне.
Чарли принимал решения без долгих колебаний.
— Иди один. Если ты меня переубедил, то с ним задание проще — не переубеждать, а убеждать. Превратить его дремучее невежество хотя бы в еле брезжущий рассвет знания.
— Та самая простота, которая хуже воровства, — ответил я в его стиле, и он захохотал: реплика отвечала обстановке.
От института до гостиницы было метров пятьсот, но я потратил на них полчаса. Уверенность, с какой я разговаривал с Чарли, вдруг испарилась. Убедить Роя я мог только исповедью, а не вывязыванием аргументов. На исповедь я не пошел бы ни к Жанне, ни к Чарли. И я не был уверен, что и скорбная откровенность воздействует на сухого землянина. Что, если и последняя отчаянная моя попытка спасти процесс будет напрасной? Нужно тысячу раз подумать, сотни раз взвесить все «за» и «против», прежде чем постучать в дверь Роя! Я шел, останавливался, стоял, снова шел. Меня вела неотвратимость.
На двери Роя горел зеленый глазок — он был у себя и не запрещал входа. Я постучал и вошел. Рой стоял у окна. Он сделал шаг ко мне, ни на лице, ни в голосе его не было удивления. Он очень спокойно сказал:
— Хотя и поздно, но вы пришли!
8
— Хотя и поздно, но вы пришли! — повторил он.
— Почему поздно? — Это было первое, что пришло на ум, надо было ведь что-то сказать. Но, еще не закончив, сообразил, что не так следовало начинать. А Рой, похоже, именно такого начала беседы и ожидал.
— Почему поздно? Мне кажется, вы это должны понимать. Вам лучше было прийти до того, как я наложил запрет на все работы с трансформатором времени. Не появилось бы протестов у ваших коллег.
— Да, пожалуй, так было бы логичней, — сказал я и удивился тому, что он сказал, и тому, что я, ответил.
Так можно было говорить только после исповеди, а я еще ни в чем не повинился.
Рой смотрел пристально, но без настороженности и отстраненности, раньше я видел в его глазах только эти два настроя — настороженность и ощутимую отстраненность. Он знал, с чем я пришел, — не конкретные факты, конечно, но готовность искренне поведать о фактах, как бы трудно их ни объявлять. И я ответно на его знание знал, что ничего теперь не утаю. Я начал так:
— Рой, разговор наш будет не из легких, для меня по крайней мере. И я хотел бы, чтобы раньше разъяснились некоторые ваши странности. Почему вы еще в аэробусе выделили меня среди других? Вы не знали, кто я, какая связь между мной и взрывом, ваши глаза невозмутимо обегали наши лица, ни на ком они не задерживались, а на мне словно споткнулись. Не знаю, заметили ли это другие, но я не мог не заметить. Скажу больше — я содрогнулся. Надеюсь, мой вопрос не показался вам нетактичным?
Рою вопрос показался естественным. Чарли, поклонник обстоятельности, выдал бы ответ в форме деловой справки, присоленной остротой, приперченной умелым парадоксом. У Роя была иная манера — он, преобразовав ответ в рассуждение, представил мне концепцию, как я — выгляжу при первом знакомстве и какие мысли порождает даже случайный взгляд на меня. Он выделил меня среди прочих пассажиров аэробуса потому, что я сам выделился. На него все пассажиры просто смотрели, а я всматривался, я изучал Роя, размышлял о нем.
Что это настойчивое изучение отражает какую-то важную мысль, Рой понял сразу. И, поняв, заинтересовался мной, а заинтересовавшись, удивился, а удивившись, сам стал размышлять обо мне. Я непрерывно менял выражение лица и позы: то мрачнел, то светлел, то замирал на сиденье, то вдруг нервно дергался — таким он увидел меня в аэробусе. Все это явно шло изнутри, не от реплик пассажиров и Роя, а от собственных мыслей.
«Каких мыслей? — спросил себя Рой и ответил: — Тех, какие возникли в нем оттого, что я прибыл на Уранию и сейчас сижу перед ним. Он, стало быть, всех непосредственней связан с трагедией, и самый точный анализ происшествия надо ждать от него» — в таком убеждении окреп Рой еще в аэробусе.
— Я вскоре узнал, кто вы такой, узнал и о гибели вашего помощника Ковальского, — продолжал Рой. Ваш приход ко мне становился необходим. Я ожидал, что вы потребуете, чтобы я принял вас раньше всех. Но вы не торопились. Это было странно. А потом явились вместе с Чарлзом Гриценко и позволили ему вести всю беседу. И объяснить ваше настороженное молчание особым почтением к своему начальнику я не мог; у вас с ним отношения свободные. Вы предоставили ему привилегию разговора, — видимо, боялись что-то выдать неосторожным словом. Молчание шло от предписания себе молчать. И тогда я показал вам, что понимаю вашу задумку. Я стал игнорировать вас, повернулся к вам спиной. Я был уверен, что вы встревожитесь и чем-нибудь да выдадите себя.
Вы не ошиблись, я встревожился. Но не выдал себя.
— Вы подтвердили еле сохраненным молчанием, что таите секрет. И я подумал, что секрет нельзя открывать директору института, а ведь вы пришли с ним.
— Правильно. Я не мог объявлять Гриценко моей тайны.
— Но если вы хотели рассказать ее мне, вы должны были прийти потом сами. Но вы не шли. Я вызвал Жанну Зорину. Она поведала немало интересных фактов о себе, о Ковальском, о вас. Но тайны она не раскрыла. Если она и знает ее, то сумела сохранить.
— Она знает лишь часть тайны, и я умолял даже намеком не касаться ее. Всего она не могла бы поведать, если бы и захотела.
— После разговора с ней я окончательно утвердился, что только вы можете пролить свет на трагедию. А вы по-прежнему не шли. Это означало, что вы хотите сохранить секрет. Ради чего? Поскольку загадка взрыва, несомненно, связана с вашей лабораторией, стало быть, ради того, чтобы продолжать исследования так, как они шли. И тогда я объявил о запрете экспериментов с трансформацией атомного времени. Перспектива закрытия вашей лаборатории подействовала — вы пришли. Теперь я слушаю вас.
Он слушал, я говорил. Временами он прорывался в мою долгую речь репликами. Я отвечал и снова продолжал свой невеселый рассказ.
— Все началось с того, — объяснил я, — что Чарлз Гриценко доказал возможность изменения скорости времени и построил первый в мире трансформатор времени, меняющий его течение в атомных процессах. Это было великое открытие — именно так его оценили на Земле.
На Урании выстроили институт для хроноэкспериментов. Чарли пригласил меня на Уранию, мы с ним друзья еще со студенчества. Я возглавил лабораторию хроностабилизации — тематика, прямо противоположная той, какую исследовали в других лабораториях института, там ведь доискивались, как время изменять, а не стабилизировать. С Земли прилетел Павел Ковальский, Чарли направил Павла ко мне. Павел, молодей доктор наук, специалист по хронофизике — дисциплине, созданной в основном трудами Чарли, — имел отличную характеристику: широко образован, умело экспериментирует, любит сложные задания. Павел не оправдывал своей характеристики. Он был гораздо выше ее. В характеристике не было главного: он шел всегда дальше задания. Он был ненасытен в научном поиске. Я долго не понимал, почему Чарли определил Павла в мою лабораторию, задача у нас — поддерживать постоянство, а не выискивать чрезвычайности. Я попенял Чарли, что он не уловил особенностей научного духа Павла. Чарли ответил: