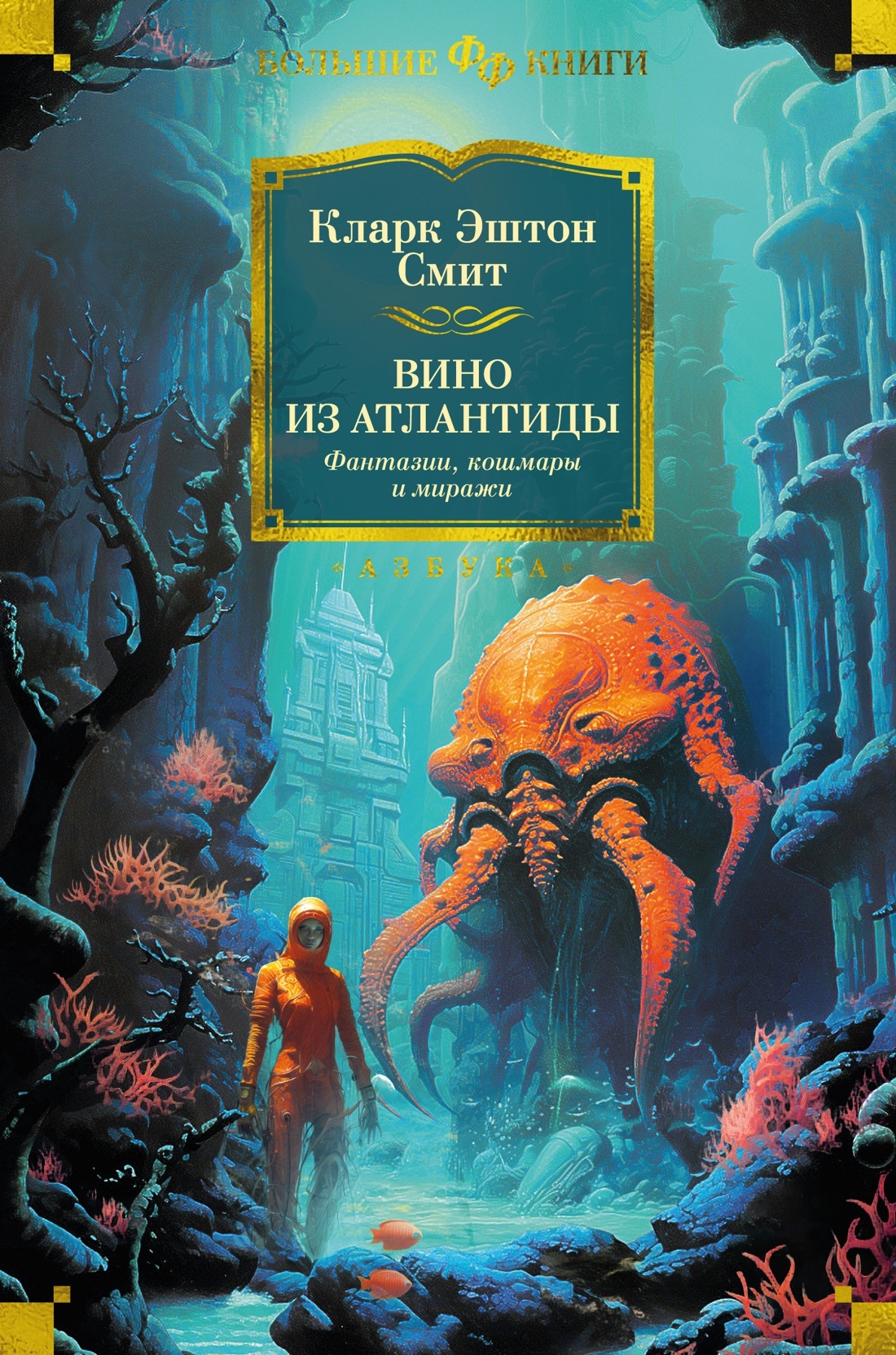который уже больше не выпускал из рук. Потом, движимый невыносимой мукой, он снова бродил по городу, пока бледный рассвет не тронул призрачным мерцанием церковные шпили и крыши домов.
Ноги сами собой вынесли его на площадь перед собором. Не обращая внимания на изумленного служку, который едва успел открыть двери, Рейнар вошел и направился к лестнице, что, головокружительно извиваясь, вела на вершину башни.
В холодном сизом свете пасмурного утра он вышел на крышу и, подойдя к самому краю, стал рассматривать каменные фигуры. Он не особенно удивился – лишь убедился, что оправдались его страхи, до того чудовищные, что признаться в них не было никаких сил, – обнаружив, что зубы и когти злобного грифона испачканы кровью, а с когтей похотливого крылатого сатира свисают клочья зеленой ткани.
В тусклом, мертвенном утреннем свете Рейнару показалось, что на лицах его творений застыли неописуемое торжество и глубочайшее злорадство. Болезненно завороженный, он в страхе глядел на свою работу, пока бессильная ярость, отвращение и раскаяние, какое неведомо даже про́клятым, не поднялись в нем удушающей волной. Не отдавая себе отчета в том, что делает, он занес молот, что было силы обрушил его на рогатую голову сатира, и опомнился, только когда услышал грохот и обнаружил, что балансирует на самом краю крыши, отчаянно пытаясь удержать равновесие.
Яростный удар лишь оставил на лице горгульи небольшую выщербину, но не смог стереть гримасу злобного торжества. Рейнар вновь занес над головой тяжелый молот.
Удар обрушился в пустоту; какая-то сила потянула камнереза назад, вонзаясь в тело десятками ножей. Он беспомощно зашатался, поскользнулся и упал на самом краю крыши, а его голова и плечи зависли над безлюдной площадью.
Теряя сознание от боли, он увидел над собой другую горгулью, вцепившуюся правой лапой ему в плечо. Лапа сжималась, когти впивались все глубже. Чудовище возвышалось над ним, точно сказочный зверь над добычей. Рейнар чувствовал, что сползает по водосточному желобу, а горгулья ерзает, будто хочет вернуться на свое место над бездной. От ее медленного неумолимого движения голова у него кружилась еще сильнее. Башня словно кренилась набок и вращалась под ним самым кошмарным образом.
Смутно, сквозь застилавшую глаза пелену ужаса и боли Рейнар разглядел склонившуюся к нему безжалостную тигриную морду с клыками, яростно оскаленными в гримасе вечной сатанинской ненависти. Каким-то образом камнерез умудрился попрежнему не выпустить из рук молота. И теперь, бессознательно защищаясь, ударил кошмарную фигуру, что надвигалась на него, точно видение кромешного безумия и галлюцинация делирия.
Удар не прекратил вращения башни, и Рейнар ощутил, что висит над пустотой, зажатый в когтистой лапе. Он целился в омерзительную морду, но не смог дотянуться, и молот с глухим лязгом опустился на лапу, вонзившую в его плечо когти, как крюки мясника. Лязг перешел в тошнотворный треск, горгулья скрылась из виду, и Рейнар полетел в пустоту. Больше он не видел ничего, кроме темной громады собора, стремительно уносящейся в пасмурные беззвездные небеса, которые припозднившееся солнце не успело еще озарить своими лучами.
Изувеченное тело Рейнара обнаружил архиепископ Амвросий, спешивший к заутрене. При виде мертвого камнереза его высокопреосвященство в ужасе перекрестился, а заметив некий предмет, все еще цеплявшийся за плечо Рейнара, весьма поспешно повторил этот жест, и трепет его был далеко не благоговейным.
Он наклонился ниже, чтобы рассмотреть находку. Безошибочная память истинного ценителя искусств подсказала ему, что это такое. Затем с той же ясностью он увидел, что каменная лапа, намертво вцепившаяся когтями в тело Рейнара, невероятным образом преобразилась: та, что он помнил, была расслаблена и слегка согнута; теперь же она была напряжена и вытянута, будто лапа живого зверя, который пытается то ли что-то схватить, то ли удержать в когтях тяжелую ношу.
За гранью поющего пламени
Когда я, Филип Хастейн, явил свету дневник моего друга Джайлза Энгарта, я все еще сомневался, считать ли описанные в нем события истиной или же плодом воображения. Приключения Энгарта и Эббонли в ином измерении, город Пламени с его странными обитателями и паломниками, гибель Эббонли и то, что сам рассказчик, сделав последнюю запись в дневнике, возвратился в город с этой же целью, на что он намекал вполне прозрачно, – все это слишком походило на сюжет одного из фантастических романов, которыми так заслуженно прославился Энгарт. Добавьте еще немыслимую и невероятную суть истории – и вы без труда поймете, отчего я колебался, не решаясь признать ее правдивой.
Однако же оставалась неразрешенная и вновь и вновь всплывающая загадка исчезновения сразу двоих людей. Оба были довольно известны, один как писатель, второй как художник; у обоих в жизни все было в полном порядке, никаких серьезных бед и забот; и, принимая во внимание все обстоятельства, объяснить их исчезновение чем-то менее экстраординарным, нежели то, что сказано в дневнике, возможным не представлялось.
Поначалу, как я и намекал в своем предисловии к опубликованному дневнику, я подозревал, что вся история задумывалась как чересчур замысловатый розыгрыш. Но постепенно эта версия делалась все менее убедительной: проходили недели и месяцы, вот уже и год миновал, а предполагаемые шутники так и не вернулись.
И вот наконец я могу утверждать, что все, о чем пишет Энгарт, – правда. И не только это. Потому что теперь я сам побывал в Идме, Городе Поющего Пламени, и постиг все неземное великолепие и восторги Внутреннего Измерения. И о них надлежит мне поведать, пусть и неуклюже, нескладно, обычными человеческими словами, пока видение не растаяло. Ибо все это вещи, коих ни мне, ни кому иному более не узреть: ведь самый Идм ныне лежит в руинах, и храм Пламени взорван и сровнен с землей до скального основания, и источник поющего огня уничтожен, и Внутреннее Измерение исчезло, точно лопнувший мыльный пузырь, в великой войне, что вели против Идма правители Внешних Земель…
Отредактировав и опубликовав дневник Энгарта, я все никак не мог позабыть об исключительных, сводящих с ума проблемах, которые он поднимал. Смутные, однако бесконечно завлекательные виды, которые разворачивала передо мной его повесть, неотвязно преследовали мое воображение, намекая на сокрытые или приоткрывшиеся тайны; меня смущало то, что за всем этим может стоять некий великий мистический смысл, некая космическая реальность, которую рассказчик прозревал лишь сквозь внешние покровы и завесы.
Со временем я поймал себя на том, что размышляю об этом непрестанно, и все более и более овладевало мною головокружительное изумление и уверенность, что такого ни один фантаст не мог бы попросту выдумать, опираясь только на собственное воображение.
И в начале