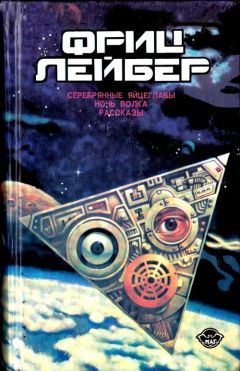Роберт шевелит лезвием, тянет нож из себя. Густые капли падают на пол. Ирландец опускает в рану кристалл и толкает его внутрь. И чувствует, как закипает кровь в жилах, наполняя его силой. Рана затягивается на глазах. Старые шрамы разглаживаются, исчезают.
Роберт встает и выходит на улицу через черный ход. Редкие прохожие бредут мимо, не замечают человека в распахнутой рубашке. Ветер треплет его волосы, полощет парусом ткань. А он идет не спеша и улыбается.
* * *
Роберт бережно опускает светящуюся горошину на стол. Берет за ствол револьвер и замахивается. От удара кристалл разлетается миллионами серых искорок, тысячами крошечных шестеренок. Из носа Ирландца течет черная кровь.
В подворотне офицер склоняется над трупом Питса, дует в свисток. К нему спешат каракатицы. За ними — морские пехотинцы. Блики играют на стволах карабинов. Цепочка следов упирается в дверь.
Тук-тук-тук.
Джо подхватывает Ирландца под локоть, тащит к черному ходу.
Роберт, шатаясь, бредет по переулку, выходит на улицу.
Отпирается засов. Приклад летит Джозефу в лицо. Парень падает. Свет фонаря на скрюченной кисти.
Ирландец идет по бульвару, все еще сжимая кольт. Черные фигуры за спиной. Вспышки выстрелов.
Роберт падает ничком. Взлетает и видит, как подбегают к распластанному телу каракатицы. Заламывают руки…
Он поднимается выше над городом. Дома становятся маленькими, игрушечными. Он несется туда, к морю, над которым начинает багроветь восход. Видит маяк и себя, Роберта, на площадке у фонаря. Ветер треплет волосы, полощет парусом ткань. Он стоит в распахнутой рубашке. Смотрит на город. На губах его змеится улыбка.
Роберт мчится дальше, к небу, и вот уже остров лежит огромной черной кляксой на отливающем сталью море. Под толщей воды движутся темные точки.
Киты.
Их тысячи, сотни тысяч, но Роберт узнает каждого. Исполинские кашалоты и гренландские гладкие, синие и горбатые, финвалы и сейвалы, маленькие полосатики, гринды и бутылконосы. Они плывут отовсюду, собираясь вместе, выстраиваются в линию, которая начинает закручиваться. Гигантская спираль разгоняется, все быстрей и быстрей мелькают хвосты, пенится вода, отступает к краям воронки. Она растет, ширится, тянется вглубь на многие мили, ко дну. И там, на дне, в обрамлении угольно-черного моря, Роберт видит ослепительно белый песок. И крест, делящий на четверти круг.
Он сверкает, наполняя слезами глаза.
— Почему? Почему так поздно? — все, что может спросить Роберт.
— Так было нужно, — отвечает Голос. — Но теперь чаша наполнена. Теперь твое время пришло.
* * *
Свет снова ударил по глазам, запустил радужные пятна. Глухо стукнула пуля о дно лотка.
— Шейте, — кивнул врач ассистенту и снял марлевую повязку. Развернулся к двум мужчинам в форме каракатиц. — Вы не поверите, господа! Жизненно важные органы не задеты! И, кроме того, — понизил он голос, — у парня железное сердце. Я впервые вижу подобное и с удовольствием понаблюдал бы за этим пациентом.
— Конечно, доктор Шинталь, — глянул на карманный хронометр один из каракатиц, тот, что постарше, и ухмыльнулся. — Наблюдайте. У вас есть целых три часа. Пароход на рудники отбывает в девять.
Не хороните меня в море, я прошу
Посвящается моей дочери Ажени, с любовью.
«…Еще одна старая песня китобоев, на этот раз совсем уж печальная. Меня она настолько растрогала, что я даже решил сопроводить приблизительный, как всегда, перевод гравюрой из замечательной книги «Убийство китов, правила и способы, в кратком изложении с иллюстрациями», где моряки зашивают в мешковину своих погибших в бою товарищей.
Эта грустная песня родилась, как утверждают источники, из одной записи в судовом журнале обычного кетополийского китобойного судна, которую я приведу здесь:
"Понедельник, 18 октября 1880 года.
Этим утром мы занимались похоронами матроса, упавшего с мачты. Мы зашили его труп в старую мешковину, прикрепив к ногам пушечные ядра, затем положили на сходни. Капитан произнес: "Все готовы?", и господин Гиффорд наклонил сходни так, чтобы тело соскользнуло в море. Не было ни прощальных речей, ни молитв. Однако ночью, в часы «собачьей» вахты, мы с остальными китобоями собрались в носовой части корабля и, как могли, помянули погибшего товарища, похороненного в полной тишине. Один из нас, Томми Уильсон, своим красивым голосом запел: "Не хороните меня в море, я прошу!", и лучше этого ничего в тот момент придумать было нельзя».
Он повторял нам хрипло и тоскливо:
Не хороните меня в море, я прошу!
Почти угасли его жизненные силы
И смерть ему шептала: «Я спешу».
"Лежать хочу у отчего я крова,
Где матери молитвы, плач сестры —
Услышу я из сумрака глухого,
Из вязкой замогильной пустоты.
На кладбище, заросшем васильками
Чью красоту никак не опишу,
Хотел бы я лежать под серым камнем.
Не хороните меня в море, я прошу!
Ведь там, в глубинах, вместо щебетанья
Веселых птиц и шелеста дерев
Я буду слышать змей морских шуршанье,
Да волн печальных сумрачный напев.
О, если б знали вы, как о земле мечтаю!
Как океана и пучин страшусь!
Душа моя трепещет, отлетая.
"Не хороните меня в море, я прошу!"
С тем умер он. Команда, опечалясь,
Бедняги тело вынесла на ют.
А за бортом, играя и плескаясь,
Шумели волны, моряка приют.
Был там и я, с тех пор прошло немало,
Но и сейчас, когда куплет пишу,
Я будто слышу голос тот усталый:
"Не хороните меня в море, я прошу!"
КИТ НАД ГОРОДОМ: ИСТОРИЯ ЛЮБОВНИЦЫ
Я открыла глаза. Лизи — бледная, растрепанная — вытирала мне пот со лба. Воск свечи, которую она держала в дрожащих пальцах, капнул мне на руку.
Больно.
Больно! А раньше не чувствовала, хотя на руке уже несколько белых оплывшихся точек. Значит, была без сознания… Скверно.
— Слава господу, очнулись. Я думала, не придете в себя уже… Как вас било, мотало как! Пена изо рта шла, — зашептала девушка. — Хотела за доктором бежать, но вы не велели.