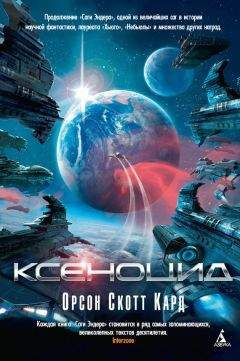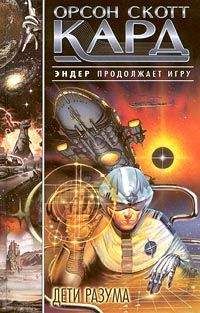— Что еще? — настаивала Цзян Цин.
— Я устал от философии, — проговорил Хань Фэй-цзы. — Может, древние греки и находили в ней успокоение, но только не я.
— Желание духа, — продолжала настаивать Цзян Цин.
— Потому что дух вышел из земли, и именно при помощи его мы творим новое из старого. Муж тоскует по незавершенным делам, которые он и его жена начали незадолго до ее смерти, и по всем невоплощенным мечтам, которые они могли бы оживить, будь она рядом. Таким образом, мужчина начинает злиться на детей, которые слишком похожи на него и лишь немножко на ушедшую из жизни жену. И мужчина ненавидит дом, в котором они жили вместе, потому что, оставь он все как было, дом станет столь же мертв, как и его жена, а реши он изменить обстановку, утратится та часть, которую она вложила в нее при жизни.
— Тебе не следует сердиться на нашу маленькую Цин-чжао, — прошептала Цзян Цин.
— Почему? — спросил Хань Фэй-цзы. — Или тогда ты останешься со мной и поможешь научить ее стать настоящей женщиной? Я могу обучить ее лишь тому, что заложено во мне, — холодному спокойствию, жесткости, остроте и силе, присущим обсидиану. И если она вырастет такой, одновременно будучи похожей лицом на тебя, как смогу я обуздать свою злость?
— Ты можешь научить ее всему, что дала бы ей я, — возразила Цзян Цин.
— Будь во мне хоть частичка тебя, — покачал головой Хань Фэй-цзы, — мне бы не потребовалось брать тебя в жены, чтобы стать целостной личностью. — Теперь уже он поддразнивал ее философией, чтобы увести разговором от боли. — Это есть желание души. Потому что душа создана из света и обитает в воздухе, это именно та часть, которая зачинает и сохраняет идеи, в частности идею личности человека. Муж тоскует по целостности, которая получается при слиянии мужа и жены. Следовательно, он не верит ни в одну из собственных мыслей, потому что у него в голове постоянно крутится какой-то вопрос, ответом на который могли бы стать только мысли его жены. И поэтому весь мир кажется ему канувшим в Лету, он не верит, что может найтись хоть что-нибудь, способное выдержать и сохранить значение перед лицом вопроса, на который больше нет ответа.
— Очень глубоко, — заметила Цзян Цин.
— Будь я японцем, я бы совершил сеппуку, расплескав свои внутренности поверх пепла твоих останков.
— Получится мокро и грязно, — ответила она.
Он улыбнулся:
— Тогда я предпочел бы стать индусом, чтобы совершить самосожжение на твоем погребальном костре.
Но у нее уже пропала охота шутить.
— Цин-чжао, — шепнула она.
Она напоминала, что для него непозволительна такая роскошь, как умереть вместе с ней. Надо, чтобы кто-нибудь позаботился о маленькой Цин-чжао.
— Как мне воспитать ее, чтобы она стала такой, как ты? — уже серьезно спросил Хань Фэй-цзы.
— Все хорошее во мне, — ответила она, — берет начало в Пути. Если ты научишь ее повиноваться богам, чтить предков, любить людей и служить правителям, меня в ней будет ровно столько, сколько тебя.
— Я мог бы дать ей знание Пути, как его вижу я, — задумчиво проговорил Хань Фэй-цзы.
— Нет, — возразила Цзян Цин. — Путь не есть часть тебя, муж мой. Даже несмотря на то что боги каждый день разговаривают с тобой, ты все равно настаиваешь на своей вере в мир, в котором все можно объяснить естественными причинами.
— Я повинуюсь богам, — сказал он, про себя же с горечью подумал, что у него просто нет выбора, что даже малейшая отсрочка ритуала — настоящая пытка.
— Но ты не знаешь их. Ты не любишь их творений.
— Суть Пути заключается в том, чтобы любить людей. Богам мы только повинуемся. — «Да и как я могу любить богов, которые унижают и пытают меня при каждом удобном случае?»
— Мы любим людей, потому что они создания божьи.
— Не стоит поучать меня.
Она вздохнула.
Эта печаль ужалила его подобно ядовитому пауку.
— О, если бы ты всегда могла поучать меня! — воскликнул Хань Фэй-цзы.
— Ты женился на мне, потому что знал, что я люблю богов и что эта любовь полностью отсутствует в тебе самом. Так я дополняла тебя.
Как он мог спорить с ней, когда знал, что даже сейчас ненавидит богов — за все, что они всегда делали с ним, за все, что они заставляли делать его, за все, чего они лишили его жизнь?
— Обещай мне, — промолвила Цзян Цин.
Он понимал, что означают эти слова. Она чувствовала дыхание смерти; она возлагала ношу своей жизни на него. Ношу, которую он с радостью примет. Потерять на Пути Цзян Цин — вот чего он больше всего страшился эти годы.
— Обещай, что ты научишь Цин-чжао любить богов и всегда следовать Пути. Обещай, что ты взрастишь ее моей дочерью, равно как своей.
— Даже если она никогда не услышит глас богов?
— Путь принадлежит всем, не только тем, с кем общаются боги.
«Может быть, — подумал Хань Фэй-цзы, — но говорящим с богами куда легче следовать Пути, потому что им за каждое нарушение негласных правил приходится платить поистине ужасную цену. Обычные люди свободны; они могут покинуть Путь и не сожалеть о том годами. Говорящему с богами ни на час нельзя оставлять Путь».
— Обещай.
«Да. Обещаю».
Но он не мог заставить себя произнести это вслух. Он даже не знал почему, причины этой неохоты крылись слишком глубоко.
В тишине, пока она ожидала ответа, до них донесся звук бегущих по гравиевой дорожке рядом с домом ножек.
Это могла быть только Цин-чжао, вернувшаяся из сада Сунь Цао-пи. Только Цин-чжао позволялось бегать и шуметь в пору всеобщей скорби. Они ждали, понимая, что она направится прямиком в комнату матери.
Дверь почти бесшумно скользнула в сторону. Даже Цин-чжао в присутствии матери старалась вести себя как можно тише. Но, хотя и шла на цыпочках, она не могла удержаться, чтобы не пританцовывать, легкими прыжками передвигаясь по комнате. Однако кидаться с разбегу на шею матери она не стала; она хорошо запомнила прошлый урок, пусть даже огромный синяк на лице Цзян Цин давным-давно рассосался: три месяца назад пылкие объятия Цин-чжао сломали ей челюсть.
— Я насчитала целых двадцать три белых карпа в садовом ручейке, — похвасталась Цин-чжао.
— Так много? — удивилась Цзян Цин.
— Мне кажется, они нарочно показывались мне, — продолжала Цин-чжао. — Вот я их и сосчитала. Наверное, никто из них не хотел остаться недосчитанным.
— Я люблю тебя, — прошептала Цзян Цин.
К ее еле различимому голосу теперь примешивался какой-то новый, необычный звук, будто при каждом слове, произнесенном ею, лопался маленький пузырик. Хань Фэй-цзы сразу уловил перемену в ее состоянии.
— Как ты думаешь, я вот столько карпов увидела, это значит, боги начнут разговаривать со мной? — спросила Цин-чжао.
— Я попрошу богов поговорить с тобой, — ответила Цзян Цин.
Внезапно дыхание Цзян Цин участилось, стало резким и прерывистым. Хань Фэй-цзы немедленно встал на колени и наклонился над ней. Глаза ее расширились, в них замер испуг. Ее час настал.
Губы легонько шевельнулись. «Обещай мне» — понял он, хотя до него не донеслось ни слова, лишь ее судорожные вздохи.
— Я обещаю, — склонил голову Хань Фэй-цзы. И тут же ее дыхание замерло.
— А о чем с тобой говорят боги? — спросила Цин-чжао.
— Твоя мать очень устала, — сказал Хань Фэй-цзы. — Иди поиграй.
— Но она не ответила мне. Что говорят боги?
— Они открывают нам разные тайны, — сдался Хань Фэй-цзы. — Но ни один из тех, кто хоть раз слышал их, не смеет заговорить об этом вслух.
Цин-чжао с важным видом кивнула. Она отступила, будто собираясь уходить, но остановилась.
— Мам, а можно я тебя поцелую?
— Только осторожно, в щечку, — ответил Хань Фэй-цзы. Цин-чжао, которая в свои четыре года выглядела совсем малышкой, даже не пришлось наклоняться, чтобы дотронуться губами до щеки матери.
— Я люблю тебя, мама.
— Тебе лучше уйти, Цин-чжао, — напомнил ей Хань Фэй-цзы.
— Но мама не сказала, что тоже любит меня.
— Она ведь уже не раз говорила тебе об этом. Помнишь? Сейчас она очень устала. Иди, иди, — строгим голосом приказал он.
Цин-чжао без малейших пререканий покинула комнату. Только когда она ушла, Хань Фэй-цзы позволил себе забыть о том, что теперь должен заботиться о ней. Он склонился над телом Цзян Цин и попытался представить, что сейчас с ней происходит. Ее душа улетела и, должно быть, уже на небесах. Ее дух еще задержится на некоторое время; не исключено, что он навсегда поселится в этом доме, если она действительно была счастлива здесь. Суеверные люди считали, что все без исключения духи мертвых опасны, и рисовали всякие знаки, налагали на дома обереги, чтобы отвадить их. Но те, кто следовал Пути, знали, что дух хорошего человека никогда не сможет причинить вред или разрушение, ибо его доброта в жизни брала начало в любви духа творить. Дух Цзян Цин, если он решит остаться с ними, будет благословением на долгие годы вперед.