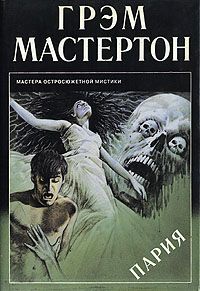Ты на самом деле думаешь, что там, во дворе, кто-то есть? Ты на самом деле веришь, что кому-то захотелось перелезать через ограду и продираться сквозь заросший сад лишь затем, чтобы сесть на старые, ржавые садовые качели? В темную, бурную ночь, холодную, как соски грудей колдуньи, когда ртутный столбик упал до нуля по Цельсию?
Возможно. Все же признай, что это возможно. Наверняка кто-то возвращался из деревни по Аллее Квакеров, кто-то пьяный, или просто подгулявший, или замерзший, или просто какой-то бедолага. Наверняка этот кто-то увидел качели и подумал: прекрасно было бы покачаться; поэтому начхать на холод и на то, что могут прихватить на "горячем".
Только кто бы это мог быть? Вот загадка, подумал я. На Аллее Квакеров стоял еще один дом. Дальше дорога сужалась, превращалась в крутую, поросшую травой тропинку для верховой езды, и зигзагами спускалась вниз, на берег Салемского залива. Путь был каменистым и неровным, почти непроходимым даже днем, не говоря уже о ночи. К тому же этот последний дом зимой почти всегда пустовал, по крайней мере, так я слышал.
Это мог быть Томас Эссекс, старый мизантроп в кавалерийской шляпе с широкой тульей. Он обитал в развалившейся рыбачьей хижине рядом с Кладбищем Над Водой. Иногда он прохаживался здесь, напевая и подпрыгивая, а однажды заявил Джейн, что может подманивать рыб свистом. Больше всего они любят "Лиллибуллеро", заявил он. Еще Томас умел жонглировать складными ножами.
А потом я подумал: он чудак, это правда, но он стар. Ему по меньшей мере шестьдесят восемь. Что делать такому старикану на моих качелях, да еще в два часа ночи в такую погоду?
Я решил, что не буду обращать внимания на этот скрип и попытаюсь заснуть. Натянул до ушей теплое домотканое одеяло, свернулся в постели, закрыл глаза и попробовал глубоко дышать. Если бы Джейн еще была со мной, она наверняка заставила бы меня выглянуть в окно. Но я был слишком измучен. Измучен и страшно нуждался в сне. После того несчастья я спал самое большее по четыре-пять часов в сутки, чаще еще меньше, а завтра мне нужно было рано встать, чтобы встретиться за завтраком с отцом Джейн; затем я хотел заглянуть на площадь Холкок к Эндикотту, где выставляли на продажу коллекцию редких маринистских гравюр и картин, на которые стоило посмотреть.
Я выдержал с закрытыми глазами почти целую минуту. Потом снова открыл глаза и увидел всматривавшегося в меня демона. И хотя я изо всех сил затыкал уши, я все еще слышал это неустанное скрип-скрип, скрип-скрип, скрип-скрип из сада.
А потом... Боже, я мог бы поклясться, что услышал пение. Слабый, тоненький голосок, заглушаемый ветром, такой неясный, что он вполне мог быть сквозняком, свистящим в камине. И все же этот голосок пел. Женский голос, чистый и удивительно жалобный.
Я выволок себя из постели так поспешно, что ушиб себе колено о ночной столик красного дерева. Демонический будильник упал со столика и покатился по полу. Я был слишком перепуган, чтобы вставать медленно, поэтому мог отважиться только на атаку в стиле камикадзе. Я стащил одеяло с кровати и завернулся в него, как римский сенатор в тогу, а потом на ощупь, затаив дыхание, добрался до окна.
Снаружи было адски темно, так что я почти ничего не видел. Небо и холмы были почти одного цвета. Темные, с неясными очертаниями деревья боролись с ветром, который безжалостно пригибал их к земле. Я вслушивался и всматривался, всматривался и вслушивался. Я чувствовал себя сразу и глупцом и героем. Я прижал ладонь к стеклу, чтобы оно перестало дребезжать. Скрип садовых качелей как-то стих, и никто не пел, - я не слышал ничьего голоса.
Однако это пение, эта удивительно мрачная мелодия все еще эхом звучала в моей голове. Мне припомнилась матросская песенка, которую старина Томас Эссекс пел в тот день, когда мы впервые встретили его на Аллее Квакеров.
Мы выплыли в море из Грейнитхед
Далеко к чужим берегам,
Но нашим уловом был лишь скелет,
Что сердце сжимает в зубах.
Позже я нашел этот текст в книжке Джорджа Блайта "Матросские песни старого Салема", но, в отличии от других запевок, эта песня не была снабжена примечаниями, касающимися ее смысла, происхождения и связи с местными историческими традициями. К ней был только один комментарий: "Любопытно". Но кто мог распевать эту "любопытность" под моим окном так поздно ночью и почему? Ведь во всем Грейнитхед могло найтись самое большее с дюжину человек, знающих эту песню или хотя бы ее мелодию.
Именно про эту песенку Джейн всегда говорила мне, что она "безумно грустная".
Я стоял у окна, пока не замерз. Мои глаза медленно привыкли к темноте, и я смог различить черные скалистые берега пролива Грейнитхед, обрисованные волнами прибоя. Я отнял руку от стекла. Ладонь была ледяной и влажной. На стекле на секунду остался отпечаток моих пальцев, словно зловещее приветствие, а потом он исчез.
Я на ощупь я нашел выключатель и зажег свет. Комната выглядела как обычно. Большая деревянная раннеамериканская кровать с пузатыми пуховыми подушками; резной двустворчатый шкаф; деревянный комод для белья. На другой стороне комнаты, на столе, стояло маленькое овальное зеркальце, в котором я видел бледное отражение собственной физиономии.
Я подумал, будет ли признаком нервного срыва то, что я спущусь вниз и налью себе солидную порцию? Я поднял с пола синий халат, который бросил там вечером перед тем, как отправиться в постель, и натянул его.
С тех пор, как Джейн не стало, дом стал удивительно тихим. Еще никогда я не отдавал себе отчета в том, сколько шума издает живое существо, даже во сне. Когда Джейн была жива, она наполняла дом своим теплом, своей личностью, своим дыханием. Теперь же во всех комнатах, куда я заглядывал, было одно и то же: пустота, древность и тишина. Кресло-качалка на полозьях, которое теперь не качалось. Занавески, которые теперь не закрывали окон, разве что я сам задерну их. Плита, которая теперь не включалась, разве что я входил и зажигал ее, чтобы приготовить себе очередной завтрак одиночки.
Не с кем поговорить, некому даже улыбнуться, когда нет желания разговаривать. И эта ужасная, непонятная мысль, что я уже никогда, никогда никого не увижу.
Прошел уже месяц. Месяц, два дня и несколько часов. Я уже перестал оплакивать себя. Точнее, мне так казалось. Конечно же, я перестал плакать, хотя до сих пор время от времени слезы неожиданно наворачивались мне на глаза. Такое испытывает каждый, кто сам пережил тяжелую потерю. Доктор Розен предупреждал меня об этом, и он был прав. Например, во время аукциона, когда я приступал к осмотру какого-нибудь особенно ценного имеющего отношение к морю предмета, который хотел бы иметь в магазине, в моих глазах неожиданно появлялись слезы; я должен был извиняться и выходить в мужской туалет, где слишком долго вытирал нос.