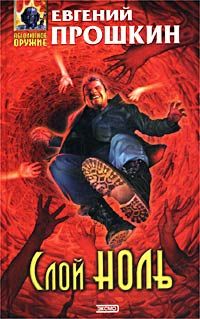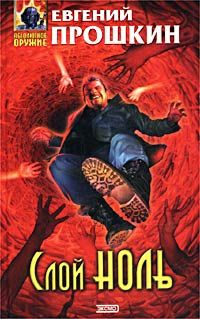Еще. Скажи еще что-нибудь.
– Петруха!! Помер, никак?
«Петруха». Петр, значит. Ну что ж, Петя, с добрым утром.
Он отчаянно, навыворот, зевнул и усердно потер глаза. Сел, свесил ноги, шаркнул пятками по приятному линолеуму и выгреб из-под кровати тапочки.
Он знал, что когда-нибудь его расколят, однако ничего лучшего пока не придумал. Если б им позволили иметь карандаши, он мог бы написать свое имя на тумбочке, и тогда по утрам ему не пришлось бы прибегать к этой уловке. Однажды басовитому соседу надоест его будить, или их разведут по разным палатам, или что-то еще – долго на одной и той же хитрости не протянешь, но другой у него в запасе не было. Каждый день он начинал с выяснения имени. Имя – это уже немало. Это гораздо больше, чем лицо. Это почти личность.
Стало быть, Петр. Хорошо бы запомнить, безнадежно подумал он и, накидывая квелый халат.
Голосистый стоял у окна и разрисовывал пыльное стекло какими-то каракулями. Он имел соответствующую басу густую черную бороду и неимоверно отросшие патлы, в которых пряталось все лицо. Петр лишь скользнул по нему взглядом, заранее зная, что завтра придется знакомиться по новой. Память хранила только самое необязательное: например, что Борода любит смотреть в окно, а вон тот сухой дедок в углу насилует соседей на предмет шахмат. Также Петр помнил, где здесь столовая, и где туалет, и то, что кран с горячей водой скручен, а труба забита деревянным чопиком, и еще сотню или даже тысячу всяких таких мелочей, но вот главного, самого главного…
– Ну что не ясно, больные? – С заметным малоросским акцентом протянули в коридоре.
В палате появилась молодая медичка с пегими, пережженными волосами и ярчайшей помадой на тонких, как две веревочки, губах. Ей наверняка не было и восемнадцати, но в роль строгой наставницы девочка вошла крепко. Как и всех остальных, Петр видел ее впервые, но почему-то сразу сообразил, что Гитлер Югенд – это она и есть.
– Подъем, ну?! Заправить койки, в туалет, и жрать. После завтрака собеседование. В десять – Зайнуллин, в одиннадцать – Еремин, в двенадцать – Караганов. У кого башка дырявая, потом повторю. По отделению не шляться, сидеть в палате. И говно за собой спускайте, холуев нет, – добавила медсестра, словно без этого ее приветствие было бы неполным.
– Небось никто не любит, вот она и бесится, – беззлобно сказал Борода, продолжая чертить пальцем разнообразные фигуры.
– А как ее, суку, любить? За такой базар у нас бы жопу лопатой разворотили, – отозвался молодой человек с острым кадыком и глазами навыкате.
Из пятерых соседей по палате фамилия Зайнуллин подходила только ему, и Петр завязал узелок на память – может, до вечера пригодится.
– Курить у кого-нибудь есть? – Спросил он, опережая ответ какой-то смутной и трагической догадкой.
– Курить нам не разрешают, – скорбно сказал бородатый.
– Опять, да? – Сочувственно произнес вероятный Зайнуллин и, не поленившись пройти через всю палату, представился. – Ренат. Это – Сережа, наш художник, там – Вовчик и Сашка, а это – Полонезов, но его надо звать Гарри.
Старик степенно кивнул.
– Вовчик и Сашка косят, поэтому с нами не разговаривают. Брезгуют, суки, – с вызовом произнес Ренат. – Я в армии таких, как вы, чмарил до последнего, – сказал он, обращаясь к ним уже напрямую. – Начиналось обычно со стирки носков, а заканчивалось…
Петр ощутил, как из черной глубины беспамятства всплывает ряд разрозненных картинок, но сосредотачиваться на них не пожелал – просто понял, что в свое время служил. Это было совсем не то, что ему сейчас требовалось.
Вовчик, здоровый и довольно спортивный юноша, угрожающе поднялся, но Ренат предостерег:
– Не рыпайся, сука, а то заместо статьи в военнике сульфу получишь. И продвижение на четвертый этаж. На четвертом буйные, – пояснил он специально для Петра.
Догадка, зудевшая неуловимым комаром, моментально оформилась: это психушка. Кажется, раньше до него доходило медленнее, а теперь не успел пописать – уже сориентировался. Два-три года, и память вернется. Сколько ему тогда будет? А сколько ему сейчас?
Петр застегнул последнюю пуговицу – пальцы помнили, что от нее отломлена половинка, – и выскочил в коридор. Восстанавливая планировку, повертел головой: налево – зарешеченное окно с широким подоконником, направо – другие палаты и столовая. Там же и выход – серая железная дверь с засовом, и стол, за которым днем и ночью сидит какой-нибудь бугай.
Туалет был прямо напротив. Петр зашел в кабинку без двери и снова убедился, что все моторные рефлексы в норме. Судя по запаху, здесь было принято мочиться мимо унитаза, но он себе такого хамства не позволил. Погоняв по раковине скользкий обмылок, Петр умудрился-таки вымыть руки, потом ополоснул лицо и, собравшись с духом, поднял голову к зеркалу.
За ржавыми разводами в темном стекле проявилась небритая, слегка одутловатая, но в общем-то приличная физиономия. Лет тридцать пять, оценил Петр, замирая в надежде на чудо. Нет, не вспомнить. Обычная морда: карие глаза, короткие пшеничные волосы. Нос с маленькой горбинкой – не от родителей, а от… ну, ну! Нет, никак. Знает, что нос ломали, причем два раза, но где и когда…
Он оторвался от зеркала и с тоской оглядел сортир. Четыре гнезда, разделенные низкими перегородками, лампочка без плафона. Замазанное известкой окно – за ним угадываются темные стальные прутья, такие же, как и во всех других окнах этого заведения. Стены раскарябаны показушными психоделическими надписями типа «кто Я?» – не иначе, Вовчика работа, или его друзей-симулянтов. Не хотят идти в армию, гады. И правильно. Армия – это война, а война – это…
Ну?!
Перед глазами пронеслось что-то серое – дым? гарь? – пронеслось и схлынуло. Не оставило ничего.
Петр погладил раму и осторожно выдвинул шпингалет. Пожелтевший бинт на щелях вырвался вместе с окаменевшей краской; петли взвизгнули почище сирены, но поддались. Так и есть, решетка. Обычная арматура, десяточка. Ну, положим, найдется у Гитлер Югенд пилка для ногтей, так это – месяца два. Ножовка в больнице, конечно, имеется, но до нее еще добраться. Петр прислонился лбом к прутьям. Второй этаж. Высокий. Сначала подумал – третий. Нет, второй. Ну и что? Если умеючи, то можно, а он… он это умеет. Вот фамилию свою не помнит, морду собственную впервые увидел, а как с третьего этажа сигать – знает. Доводилось.
Кто я?
Нет, не теперь. Бежать – дело хорошее, но лишь при условии, что есть, куда. Вспомнить. На это нужно время.
Время… Петр тяжело вздохнул. Ведь завтра будет то же самое – все с нуля. Он так и состарится в психушке, день за днем изнуряя память, каждое утро знакомясь и с Ренатом, и с гроссмейстером Полонезовым.