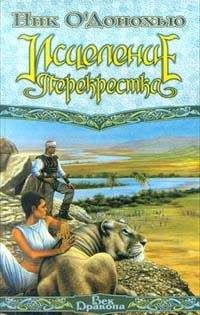Маленькая, зоркоглазая, живая. В ней все переплелось: и социализм, и нечистая и светлая сила, и 13 число, и карты, и наука. Оттого, кажется, и юркая она: в развалку не обойти таких дебрей.
Красноармейцы, учащиеся не раз видели ее. Это она водила их по комнатам галлерей и голосом, движениями рук оживляла скучающие на полотнах леса, вечные, осенние и летние покои. Испытующе заглядывала в лица, глаза: "Понимают ли?". Ловила искорки оживления, радости и прятала их. А дома, вечером, под взглядом шестидесяти пяти пар глаз, пронизывала этими искорками письма друзьям, в глухомань.
Это в 1922 году. В Москве уже не было митингов: все слова - самые волнующие - выветрились, опустели и, как по льду, шуршали жухлыми листьями. Тех, кто кидал в эту пору слова, знобил их мертвый шорох. В это время, в переулке Арбата, маленькая женщина, - а у нее в 1921 году умер сын, перед его смертью, в жажде спасти его, она, беременная, со слезами пошла под нож-аборт: оттого на портрете дети и бьют ее палками, - эта женщина находила живые слова о бурлящей жизни и звонила ими в закинутые в глушь сердца.
IV.
В блеске вечера, вокруг пестрых палаток, под ударами ветра бурлят плечи, спины, платки и узлы. С боков их раздвигают трамваи, автомобили... Вой и хрип, звонки и понукания тонут в криках о продаже бензина, зубного порошка и пудры, валерьяновых капель, камфоры и обручального кольца...
- Часики... часики купите, гражданин...
- Покажь, у-у, скоко?
- Три.
- Не три, а то перетрешь... Лимон хочешь?
- Что вы? разве можно? давайте два, вечер уже: в больницу надо, к мужу... два...
- Полтора... больше ни-ни...
- Два... ведь, нельзя так. Последняя вещь... Ну, набавьте хоть двести пятьдесят, гражданин... Ну, давайте, давайте.
Холодные пальцы ловят шуршащие бумажки. В памяти всплывают слышанные на службе слова о барельефах Менье, а ноги семенят к палаткам, к лоткам. Минута - и барельефы опрокинуты: "Если тратить по 500.000 рублей, хватит на три дня".
Мелькают туши мяса, масляные квадраты, мешки сахара, окорока. Эх, Пимену бы всего вволю... А там весна... в лес его, на солнце...
- Граждане, гадает слепой... Слепой. Кому погадать? на счастье...
- Нитки, иголки, духи, мыло!..
- Примус, примус!..
- Дрожжи!
За усталым телом гонится сумрак и кутает в зябь. Переулки, площадь, улицы. Протянутые руки, бегущие огни автомобилей, шелка и рубища. Воротами висит полотнище с криком о голоде. А под ним кипит кашица голов.
В передней больницы захлестывает мрак. Ворчат служки, косится вызванная сиделка: пришла в неурочный час. Стыдясь, Феля дает им по бумажке и коридором мчится в холодную палату.
- Здравствуй.
Оправляет подушку, глазами бегает по впалым глазам и стриженой голове Пимена. Радуется его аппетиту и теребит свое колено: "Дала на чай, на послезавтра не хватит"... Говорит, отвечает и барахтается в заботе: "К кому бы пойти?".
Надо посоветоваться, но нет сил, а минуты бегут, торопятся. Улыбкой прикрывает боль, говорит, пока порога больницы не переступит тот, кому после четырех посторонние не должны попадаться. В шорох палаты из коридора врываются шаги, скрипит дверь, и вдоль коек летит:
- Ш-ш-ш, гражданка, скорее, скорее...
Феля ловит пустой узелок, посыпает Пимена ласковыми словами и спешит. Звуки ее шагов вытягиваются, затихают, но Пимен видит ее рядом с непокидающими воображения полотнами. Следит за нею, решает, что будет писать, когда выйдет, волнуется. Но затихшее тело напоминает:
- Есть...
И нет полотен, нет Фели. Тело шепчет, потом кричит, требует... Горячее, всегда голодное, ненасытное, выжатое недугом. В него уходят больничные порции, Фелины узелки, но ему все мало. От его зуда темнеет в глазах, сердце ноет...
Надо отворачиваться к стене, смыкать веки, считать до ста, до тысячи, пока не придет забытье. Но крик:
- Есть! - расколет забытье.
И опять надо считать. Рассвет смажет окна похожей на сбитое мыло сизью. Ночь спрячется под койки, градусник покажет температуру, часы отмерят пульс, на скорбный лист лягут новые значки. А воздуха, а тепла, а лекарства, а еды нет. Голодные крики сотрясают, корчат.
V.
С первой метели мечется Феля. Всегда бегом: ходить мешают холод и метелица в сердце. На службу, со службы, к знакомым, на рынок, в больницу, домой и опять. Всю зиму глаза со стен ободряли ее, усталую, разбитую. А теперь хмурятся. Не к кому пойти, - всем должна, всем, кажется, надоела, все продала. А они глядят враждебно, спорят и будят ее криками.
После продажи часов к ним примкнул и скакун: чуть забылась она, он рванулся на стене и потряс холодную тишину гулким голодным криком. Феля взметнулась, светом заглушила ржанье и вскинула на него глаза. Он глядел в сторону, шевелился; по жилам его сочилась кровь. А глаза, все, кроме детских, торжествовали:
- Ага, вскочила?
- Боишься? Он корчится там, а ты бегаешь на службу, водишь кого-то по галлереям, суетишься, читаешь по вечерам, пишешь письма...
- Но что же мне делать? что? - запрыгали ее губы. - Ведь моя работа оплачивается грошами.
- Ищи, а то поздно будет: может быть, сегодня с ним случится...
Челюсти Фели запрыгали. Она суеверно закрестилась, схватила пальтишко - и по лестнице, наружу, по ночной Москве. Пронизывало. Хмуро вскидывали глаза сонные милиционеры. Над далями мостовых клубился мрак. Пасти домов дышали застоявшимся холодом.
Москва гудела далеким поясом рельсов и покрикивала паровозами. В больнице шуршал сон. Разбуженная шагами сестра настигла Фелю, молча повлекла из палаты и вытолкала в коридор:
- Как вы смели?!
Стук зубов Фели, огоньки ее глаз уняли в ней злобу и испугали:
- Да что вы? что вы? успокойтесь... что случилось?
- Страшно мне... что с ним?..
- С кем? где?
- Там?.. с ним?.. с мужем?..
- Ничего... что вы?.. все хорошо... он поправляется...
- Нет, нет... мне сейчас снилось такое, что... Разрешите только глянуть, ну дайте ваш халат... Я ни слова не скажу... ну, ради всего...
Понятное, горячее встало над обеими - любовь, и халат с шуршаньем переместился на Фелю. Чужие руки дрожа обвернули ей голову, напустили на лицо шалашик, и она белым пятном метнулась мимо бредивших. Бормотание, храп и стоны глушили шаги.
- Вот, вот.
Нагнулась к Пимену и радостно зазвенела: он спал. Сжала потянувшиеся к нему губы и ринулась прочь. Шуршала у двери халатом и улыбалась. Трясла руку сестры, - и опять под сереющее над сонной Москвою небо. У церквей замедляла шаги, крестилась, но кресты не гасили боли. В голове, как в метель: одно за другим, одно за другим. Ноги все дробнее стучали по камням и ледкам.
У себя Феля прошла к стоявшему в углу, завешенному ситцем, огромному полотну в раме, и, чтоб унять метелицу в себе, шепнула: