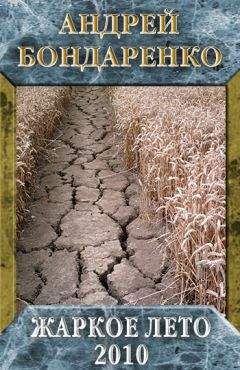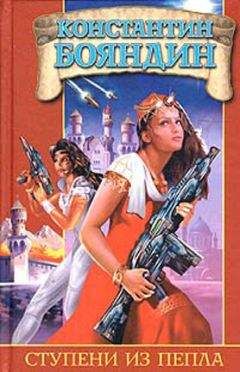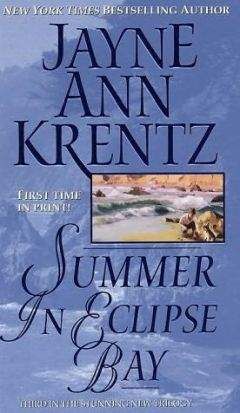Его зрение вообще вдруг обострилось. Он видел сейчас сотни разных мелочей, которых раньше и не приметил бы, которые сами по себе ничего не значили, но все вместе складывались в единое целое, в картину, которая навсегда останется в памяти и будет оживать по своим, не совсем понятным законам, повинуясь толчку, который могут дать и запах влажной земли, и шероховатая на ощупь скатерть под ладонью, и скрип двери, похожий вдруг на неумолчное пение цикад, пронизывающее весь этот летний день...
Виктор поймал себя на том, что не слушает ее, а смотрит на приоткрытые, чуть обветренные губы, видит нежную линию подбородка, подсвеченный солнцем золотистый пушок на загорелой коже, ее опирающуюся на землю узкую руку и муравья, озабоченно пробирающегося в траве рядом с рукой. Ему стало легко и весело, он вскочил на ноги и протянул ей руку:
— Пойдемте купаться?
Она не приняла руки, но гибким движением поднялась и побежала к кромке впаянного песка. Он отстал и смотрел, как она подбегает к реке. Солнце било в воду, засвечивало Виктору в лицо.У самой воды она приостановилась, обернулась — легкий силуэт, вырезанный в серебряном полотне. Ветром шевелило рябинки на воде, катало по ним маленькие ослепительные солнца. Они дрожали, вразнобой вспыхивая и притухая, и ее фигура казалась размытой по контуру и окруженной теплым сиянием...
— ...Витя, тебя опять в мастерские вызывают. Говорят, на чертежах не те допуски проставлены.
Виктор не сразу понял, чего от него хотят. А поняв, поднялся и нехотя пошел в мастерские.
В мастерских было жарче, чем в лаборатории, пахло машинным маслом и сгоревшей изоляцией. Рубашка у тучного мастера некрасиво прилипла к спине. Чертежи оказались в порядке, чувствовалось, что мастеру просто невмоготу работать. Все это отняло довольно много времени, и рабочий день успел подойти к концу.
На улице висела тонкая пыль и бензиновый перегар. Солнце было оранжевым, как перезревший апельсин. Оно совсем не грело. Дышать было нечем. В общежитии было так же тускло и пыльно. В комнате пахло худосочной городской зеленью и асфальтом. В коридоре все время слышались шаги, за стеной разговаривали. Виктор лег на кровать, как солдат на привале, — не раздеваясь и без сил.
...А на реке солнце малиновым своим краем упруго проминало черту горизонта. Девушка еще была здесь и заметно обрадовалась его появлению. Он молча опустился рядом. Вода без плеска набегала на песок. Воздух на глазах синел. Лезвие горизонта, наконец, справилось с солнцем — располовиненное, оно почти не светило, только бросало снизу на небо отблеск своего потускневшего тела. Закат был багровым. От воды по ногам ползла прохлада. Было бережно и непривычно. Хотелось, чтобы что-то случилось, чтобы нужно было действовать, может быть, спасать ее от чего-то непонятного и враждебного, и Виктор осторожно перевел дыхание, расслабив непроизвольно напрягшиеся мышцы.
Напряженность прошла, оставив ушедшее вглубь смутное ощущение, что что-то забыл и нужно немедленно вспомнить и побежать куда-то и что-то немедленно делать...
В лесу оказалось совсем темно, и он несколько раз споткнулся. Под ногами зашуршал песок дорожки. Она шла рядом. Виктор слышал ее дыхание, легкое и неровное. Невидимый в темноте, опускался туман. Она зябко вздрогнула, и Виктор осторожно обхватил ее рукой за плечи. Плечи были податливыми, как неживые, и в нем шелохнулась волна грусти и нежности к ней и ко всему на свете.
Идти обнявшись было неудобно, и они замедлили шаг. Впереди уже просвечивали сквозь деревья слабые огоньки последнего автобуса, и она мягко высвободилась из-под руки Виктора. В салоне, кроме них, не было ни души, и водитель не включал освещения. Автобус слегка покачивало. Она всю дорогу просидела глядя вперед, туда, где под колеса торопился асфальт, и словно не замечая, что рука ее лежит у Виктора в ладонях. Он тоже молчал, а за окном в ярком отблеске фар проносились редкие встречные машины и впереди ненастоящим светом люминесцентных ламп мерцал город.
Призрачными тенями скользили по улицам прохожие. Акации стояли черными в свете фонарей и окон. Медленно надвинулся троллейбус. Салон был ярко освещен и пуст. Она села рядом. Виктор, не касаясь, ощущал плечом тепло ее плеча.
Они вышли. Серые коробки пятиэтажных зданий тускло светили разноцветными окнами. Прошли несколько домов, остановились у подъезда. В приоткрытую дверь вырывался косой луч света, перечеркивая ступени и выхватывая из темноты неправдоподобно яркую зелень.
Откуда-то донесся обрывок разговора, смех. Это словно сняло с нее минутное оцепенение. Она торопливо бросила Виктору:
— Прощай...- и заторопилась, застучала каблучками по ступеням. Он догнал ее и поднимался следом, стараясь ступать бесшумно, что бы не перебить четкий дробный ритм ее шагов. Отперев дверь, она обернулась и тихо выговорила:
— Не надо... Ступай... Не надо...
Ее смятение передалось Виктору. Тугими толчками пульсировала кровь. В горле вдруг пересохло. Он сделал шаг вперед. Она, как во сне, попятилась, качая головой и беззвучно произнося:
— Не надо... Не надо...
Спиной она толкнула дверь. Они перешагнули порог — сначала она, он за ней. Она не подняла руки, чтобы остановить его. Сухо щелкнул замок. Неясным пятном светилось в темноте ее поднятое к нему лицо...
...Виктор стоял у окна в своей комнате. С сигареты на подоконник упал столбик пепла. Было зябко. Заспанная дворничиха под окном поливала асфальт, нехотя таская за собой черный лоснящийся шланг. Лучи солнца коснулись верхушек деревьев. Асфальт отдал за ночь все тепло и теперь смирно подставлял спину шелестящей водяной струе.
На работе началась очередная запарка. В этой горячке Виктор не замечал, как и что ест, допоздна засиживался в мастерских, почернел и высох. Только поздно вечером он мог мысленно побывать на берегу реки. Попадал он туда всегда в разное время, словно бег часов там был иным, отличным от настоящего, не воображаемого мира. Но всегда — и днем, и ночью, и в пепельные сумерки — его не отпускало ощущение непоправимости затянувшегося ожидания. И даже в воздухе, в бодрящем свежем запахе земли и лета, был разлит тот аромат грусти и увядания, который может появиться лишь осенью, в солнечные и печальные дни бабьего лета, который тревожит и беспокоит острым, как боль, нетерпением.
Ее не было. Он сидел у самой воды, вспоминая ее сбивчивый шепот: