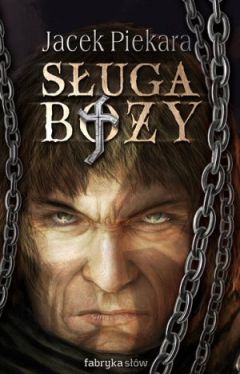Загнал Корней волка в сундук, тот, конечно, огрызался, не шел, да разве с хозяином сладишь, ежели хозяин чего захочет. Пришлось лезть в дубовую темницу. А потом взобрался Корней на подросший дубок, затащил веревкой сундук на самую вершину да и приковал его там цепями к стволу.
А сам спустился вниз, довольный, что все так удачно вышло. Никто не помешал, не приставал с вопросами да советами. Отряхнул Корней коленки и пузо от налипшей дубовой трухи и пошел в избу пить чай. А попивши чаю, завалился спать и проспал до следующего утра. К этому делу, как и ко всякому другому, он был шибко способен и охоч.
В ту пору ему как раз сровнялось тридцать три года.
Тут-то и случилась реформа. Сергей Сергеевич был к тем дням уже стар и немощен, начал в детство впадать да вскорости и умер, царствие ему небесное. При нем-то еще крестьяне придерживались как-то прежнего уклада, жалели старого барина. Хотя, надо заметить, нередко говаривал покойничек в своем, понятно, кругу такие вот слова, определяющие все его хозяйственные методы: "Чем больше на мужичка жмешь, тем больше выжмешь". Но был он политик тонкий и понимающий, а потому для холопов своих - отец родной. А сколько раз потом самые разнообразные люди говорили эти крылатые слова, и не сочтешь...
Ну, а хозяйство покойного Сергея Сергеевича в распыл пошло. Наследнички были аховые, они бы и в старое время вряд ли продержались, а после реформы и говорить нечего.
И на Корнея беда свалилась. В одночасье изба и все подворье сгорело, только и успел зверей в лес выпустить, а вскоре и хозяйка скончалась от давней нутряной хвори.
Отгоревал Корней, сколько полагается по нормам домостроевской морали, но не более того, да и стал жить дальше. "Ничего, - думали люди, - мужик он крепкий. Еще поживет. Может, и ничего".
А он поставил у речки кузню и заделался общественным кузнецом. Начинал с малого, но работал так, что пупок трещал, славу по всей округе заимел со временем, деньжат подкопил. Крепко подкопил, дом поставил на месте прежнего пепелища, землицы прикупил малость. И значит, нечему тут удивляться, что взял из соседней деревни самую красивую да молодую девку. Женился, стало быть, вдругорядь. За такого, небось, любая пойдет. У такого, как теперь говорят, перспектива. Раньше такого слова не знали, но за сытое будущее хватались не менее цепко.
Жить бы да жить Корнею с новой молодой хозяйкой. Да с судьбой не поспоришь. А она тянула по уже накатанной колее. От мертворожденного младенчика к нутряной хвори и далее, до опустошающего, буйного пожара...
В десятом, что ли, году нового века женился Корней в третий раз. Да и чего ему счастье не пытать, если, подойдя почти вплотную к столетней черте, был он все так же статен, ядрен и крепок, как тридцатитрехлетний; если дубок его заветный вымахал в ту пору аж под самое небушко, тучки начал цеплять ветвями. Уже имя Корнеево обросло тугим клубком сказок и былей, и зависть людская то накатывала на него кипучей волной, то вновь с шипением отступала. Куда ей, этой ползучей волне, было до Корнеюшки.
И показалось Корнею в какой-то момент, что ухватил-таки он за хвост свое мужицкое счастье. Домину отгрохал красивше прежних всех, девку взял вообще стати немыслимой. И народился у них наконец мальчонка, смышленый да шустрый. Потихоньку оттаяла бабина родня, простила самоходку, не послушавшую злой людской молвы про мужика, чужую жизнь живущего, сделавшую наперекор всем и, теперь это видели все, не прогадавшую в расчетах.
И только счастливый Корней да женушка его знали правду и втихомолку посмеивались. А правда заключалась в том, что и в помине не было тут никаких расчетов, а было то, что ныне зовем мы любовью, а раньше люди называли по-разному, всяк на свой лад и по своему соображению.
Вот тут и грянула империалистическая. И Корнея с первой же партией забрали на позиции. Несмотря на преклонный возраст. Одна только его баба и не голосила на проводах, поскольку знала уже, что ничего не сделается ее кормильцу, пока упирается в небо ветвями огромный дуб за гумном, то есть пока существует во Вселенной планета Земля, а также господь на небеси.
И уж когда кончились все битвы, большие и малые, когда пролилось море нашей и ненашей, а в сущности, тоже нашей крови, вернулся Корней в родную деревню полным Георгиевским кавалером, а, кроме того, еще и героем революции. И узнал, что сгинуло его семейство в полыме великих событий то ли от голода, то ли от холеры, даже объяснить достоверно было некому. Зато дом уцелел как-то. Правда, в нем уже располагалось первое в деревне учреждение.
Раньше бы подумал Корней, что опять судьба, а теперь он так подумать не мог, потому что довершил на разных фронтах свое начальное старорежимное образование и узнал, что никакой судьбы, а также и бога нет, что человек сам кузнец своего счастья, что все свершается по воле неумолимых исторических законов, а остальное - мура и прочий несознательный опиум.
Прирезали Корнею хорошей землицы, как геройскому и политически грамотному борцу, и велели эту землю возрождать и обихаживать на радость и сытость себе, а также всему победившему классу. На какие-то миги тяжко задумался мужик да и принялся за дело, к которому сызмальства был приставлен самим создателем, низвергнутым ныне с освобожденных небес. Принялся обустраиваться и обустраивать все вокруг со всеми вытекающими из этого последствиями. Все потерянное восстановил, да так вошел во вкус, что его же через несколько лег и пришлось подводить под экспроприацию, к чему он отнесся стоически и даже с пониманием.
Огорчало только, что сынишка малолетний - от четвертой, стало быть, жены - кричал ему принародно такие слова, каких от века не позволялось даже шепотом произносить в присутствии старших, а тем более родителей. Уж так огорчало, что даже и представить тошно. Однако стерпел. Еще и потому стерпел, что жена шептала в ухо всякие увещевания да цепко держалась за подол рубахи. Хотя, конечно, если бы не крепился сам, разве спасла бы от непоправимого ветхая косоворотка из ситчика, вылинявшая до полной бесцветности?
Потом приехал из города землеустроитель, несколько дней мерял угодья саженью и в конце концов пришел к выводу, что огромный дуб никак невозможно оставить в целости в свете ликвидации межей, как последнего пережитка частнособственнической психологии.
О-о-о! Такого грандиозного мероприятия, не считая осквернения местного храма, не знала деревня. Все собрались как на митинг. И только Корней стоял в толпе совсем непраздничный с виду. Но пьяненькие добровольные пильщики и рубщики сочли, что он тоже клюнул с утра, только лишку. Безропотного Корнея отвели под руки в сторонку, чтобы случайно не зашибить.