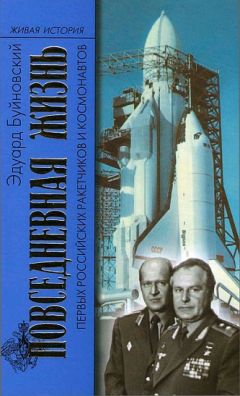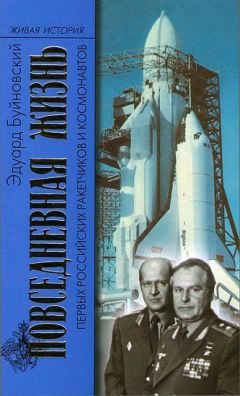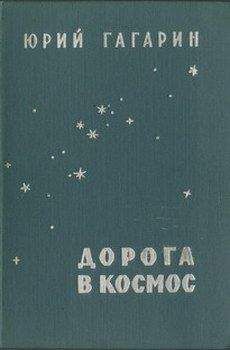С ним могли работать только честные люди. Он чуял "ловкачей" (так он называл самый ненавистный для себя сорт людей), как кот чует мышей. Впрочем, и "ловкачи" чуяли его, как мыши кота. Главный привык отвечать за слова свои и дела, и такого же ясного, полного и короткого ответа требовал от других. Более всего ценил он людей, знающих до тонкостей свое дело. И в то же время не любил тех, кто старался демонстрировать перед ним свою осведомленность: часто детали вопроса его не интересовали. Вернее, он не мог себе позволить интересоваться деталями.
Кто-то хорошо сказал однажды, что Главный работает "в режиме да – нет".
Он был добрым. Да, Бахрушин знает, что он был добрым человеком, но он никогда не был мягким. Никогда не просил "по-хорошему". Он требовал. Требовал не только потому, что был вправе требовать, но и потому, что считал просьбы категорией человеческих взаимоотношений, недопустимой в своей работе. И вот сейчас, когда Бахрушин шел по солнцепеку к белому зданию штаба, он ясно представлял себе будущий разговор с Главным. Кричать он не будет. Он вообще почти никогда не кричит на космодроме. Умный человек, он понимает, что криком тут ничего не добьешься. Железо есть железо, субстанция неодушевленная. Подстегивать людей можно до определенного предела, потом все уже идет во вред: люди нервничают, и железо торжествует. Все, что можно было сделать, Бахрушин сделал. И Главный это знает. Разговор будет короткий, "в режиме да – нет".
Кабинет Главного Конструктора на ракетодроме. Он очень похож на его маленький городской кабинет. Такой же белый телефонный аппарат с гербом СССР на диске, такой же лунный глобус. Быстро крутит резиновыми ушами, поводит вправо-влево остроконечной головой вентилятор-"подхалим".
Главный в простой трикотажной тенниске, в мятых легких брюках и дырчатых сандалиях, ужасно какой-то нездешний, дачный, сидит за столом над бумагами, медленно прихлебывая из запотелого стакана ледяную минеральную воду. Когда входит Бахрушин, Главный отодвигает стакан и чуть привстает для рукопожатия.
– Садитесь, Виктор Борисович. Бахрушин сел.
– Что нового?
– Ничего.
– Итак, запаздывание команды на включение второй ступени три десятых секунды.
Так?
– Больше. Тридцать пять – тридцать шесть сотых.
– Так… Может быть, где-нибудь разрядка на корпус?
– Возможно.
– Проверить можно?
– Можно. Но все проверить трудно.
– Знаю, что трудно, – Два дня люди работают… Вернее, двое суток…
– Да, я знаю… Хотите нарзану? Холодный…
– Спасибо, не хочу.
Главный отвернулся, помолчал. Потом искоса, как-то подозрительно взглянув на Бахрушина, сказал:
– У меня предложение: давайте сменим машину.
– Не успеем.
– Надо успеть. До старта почти сорок часов. Москвин и Яхонтов вам помогут.
Бахрушин молчит. Он знает: сменить машину, убрать одну ракету и поставить другую за такой срок – это почти подвиг. Впрочем, почему "почти"? Это подвиг. А люди очень устали.
– Мы все-таки узнаем, откуда берутся эти тридцать пять сотых, – вдруг зло говорит Главный. – Подниму протоколы всех испытаний. Под суд отдам!
– Может быть, люди не виноваты.
– Тем более надо узнать! Помолчали.
– На этой, – Главный кивнул в окно, – можно прокопаться еще неделю… Давайте менять, Виктор Борисович.
Бахрушин понимает, он отлично понимает, что Главный прав. От этого, конечно, не легче, но Главный прав. И он говорит:
– Ясно, Степан Трофимович. И встает.
– Вот теперь я выпью вашего нарзана, – говорит он со своей удивительно обаятельной улыбкой, очень просто, как умеет это делать один Бахрушин. Крошечные пузырьки в стакане лопаются, и нарзан приятно так шипит. Бахрушин пьет маленькими глотками, потому что холодно зубам.
Темная звездная ночь, последняя ночь перед стартом. На скамейке у белого домика, окруженного тоненькими, хиленькими тополями, сидит Роман Кузьмич, главный "космический" доктор. Его не сразу и заметишь. Только когда наливается вдруг красным светом папиросный пепел, видно, что кто-то сидит на скамейке. Тихо.
Пилят кузнечики. Слышно, как едет по шоссе машина. Сюда едет. Побежал по придорожным столбам молочный свет фар. Метров тридцати не доезжая до домика, машина остановилась. Фары погасли, и стало еще темнее, чем было. И еще громче грянули кузнечики. Хлопнула дверца. Темная фигура, спотыкаясь, двинулась от шоссе на огонек папиросы.
– Осторожно, там кирпичи, – заговорщицким шепотом говорит Роман Кузьмич. – Кто это?
– Это я, – отвечает фигура.
– Степан Трофимович? Добрый вечер!
– Здравствуйте, Роман Кузьмич!
Главный Конструктор садится на скамейку рядом с Романом Кузьмичом. Молчат.
Доктор понимает, зачем приехал Главный, а Главный знает, что доктор понимает.
Вот они и молчат. Тихо. Пилят кузнечики, но от этого тишина становится еще более глубокой.
– Хотите папиросу? – спрашивает доктор.
– Спасибо, не хочу… Спят?
– Спят, как ангелы.
– Удивительные ребята…
– Нормальные, здоровые ребята.
– Ну, нет, что вы, – мягко, но убежденно протестует Степан Трофимович, – замечательные, необыкновенно замечательные ребята.
– Вы прогрессивный отец. – Улыбки доктора в темноте не видно, но по голосу можно понять, что он улыбается. – Чехов, кажется, сказал, что все, чего не могут или не хотят делать старики, считается предосудительным. Хорошо, а? Мы с вами не можем лететь на Марс, но не считаем это предосудительным. Выходит, и я прогрессивный отец.
– А если бы завтра предстояло лететь вам, вы смогли бы уснуть сегодня? – задумчиво спросил Степан Трофимович.
– Думаю, что уснул бы.
– А я бы, наверное, не уснул…
– Скажите, Степан Трофимович, только абсолютно серьезно: вам никогда не хотелось слетать самому? Главный Конструктор ответил не сразу. Вспыхнула, высветив губы и ноздри доктора, папироса и снова пригасла, словно кто-то передвинул рычажок реостата у маленького красного фонарика…
– Хотелось… Всю жизнь хотелось… – сказал Степан Трофимович. – Ну, я пойду, а то мы еще разбудим их своими разговорами…
Доктор угадал в темноте протянутую ему руку.
– Да, ложитесь. Уже второй час.
Споткнувшись раза два о невидимые кирпичи, Степан Трофимович дошел до машины.
Доктор слышал, как хлопнула дверца и Главный сказал шоферу:
– На стартовую.
Стартовая площадка светится в ночи издалека, как гигантский волшебный кристалл, идеальные грани которого рождены белыми росчерками прожекторов. Ракета, упрятанная в конструкцию монтажной башни, блестит в их лучах. Это уже другая ракета. Но отличить ее на глаз, разумеется, нельзя. А вокруг нее на разных этажах башни – фигурки людей. Все те же человек двадцать, не больше. Больше просто не нужно, только будут мешать. Сейчас от этих двадцати все и зависит.