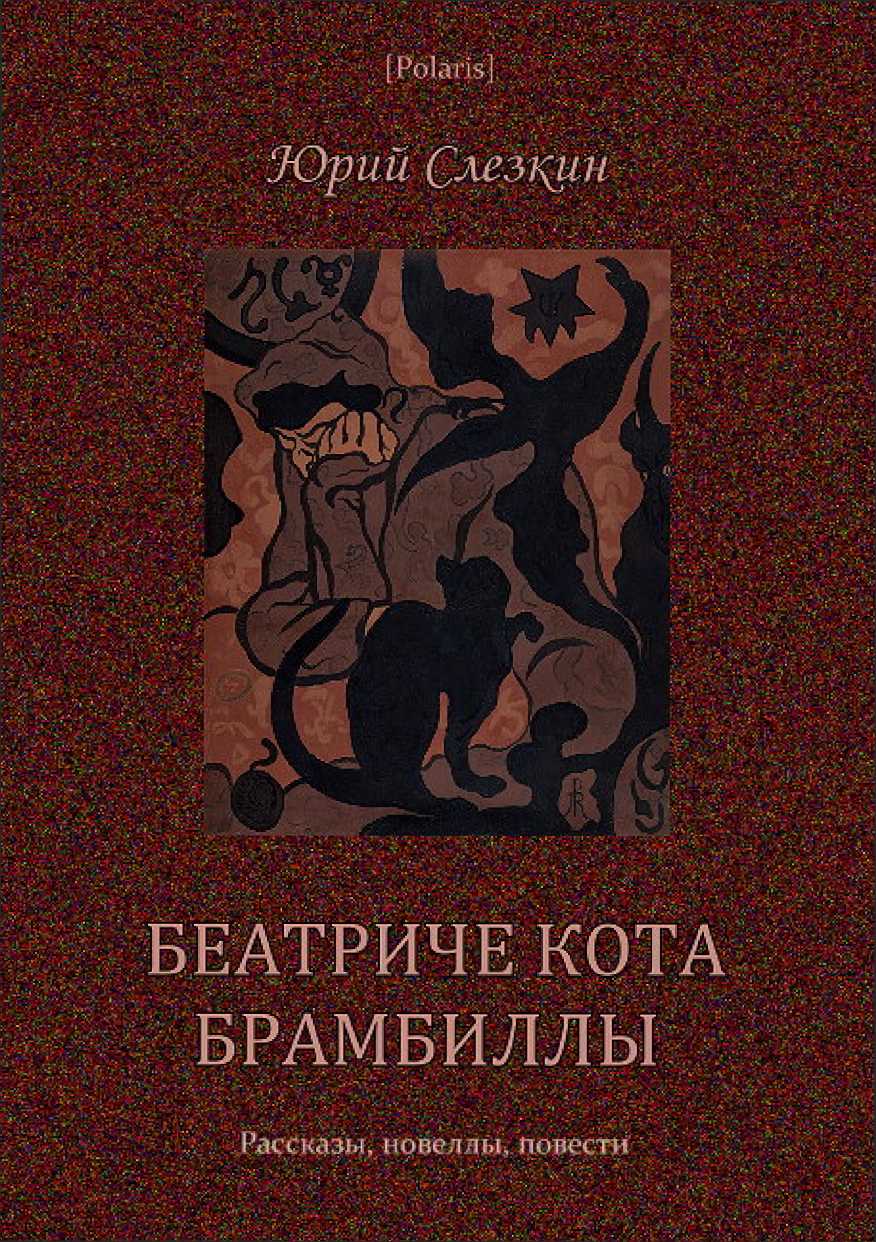жирными бликами земля.
Поплавок оживает странными, таинственными движениями, точно непонятное существо в страхе предчувствия. Делает несколько порывистых скачков вверх и вглубь, потом совсем уходит ко дну.
Я знаю, что на крючке рыба, знаю, что эта рыба — линь, но не подрезываю ее, а пристально слежу за поплавком, весь уйдя в загадочную жизнь неживого.
И опять воскресает во мне молитвенная радость живоносности утра, дающего силы и движение, остроту желаний, блеск мысли.
Уже странная фосфорически-изумрудная рыба бьется на берегу, широко моргая красными, круглыми глазами, уже поплавок моей удочки снова ожил на стекле реки, но во мне совсем угас охотник, мне не нужна добыча, не нужна смерть с ее вздрагиванием и судорогами.
Я свертываю лесу, возвращаю к жизни пойманного линя и торопливо раздеваюсь.
Я хочу дышать всем телом, хочу войти в воду, двигать руками и ногами, чувствовать под собой упругий песок, приобщиться к таинственной жизни реки.
Она приняла меня к себе, овеяла холодом молодости, стала гладить спину и грудь, сдернула с глаз моих пелену сна и ночи.
Раздвигаю ломкий камыш, отдуваясь, сжимаю и разжимаю мускулы.
Выше ползет царь-солнце.
Блеклыми тенями уходят последние мысли о ночи, тают лунные слезы-росы, дышат травы землей и лучами.
Где-то там, недалеко, загорается смех. Звонкий и круглый. Так только могут смеяться женщины.
И я плыву на этот смех, скрытый камышом и лозами, надуваю щеки, улыбаюсь светящими радостными глазами.
Меня тянет на этот русалочий зов, волнует непонятными приливами счастья, манит загадочными возможностями.
Я люблю вас — теперь, — незнакомых, прекрасных в зеркале реки и неба, быть может, выплывших из темных глубин, встречающих утро. Я еще не вижу вас, но чувствую ваши зовы, вам самим непонятные, живущие помимо вас в упругости тела, в волнении голоса.
Я люблю вас — таинственных, далеких, манящих, желанных в своей неуловимости.
Так, — издали, под лучами солнца, в переливах радуги, в росистые зори кажетесь вы мне белыми чашечками водяных лилий, цепкими стеблями водорослей, — утренней мечтой о счастье.
Вы пришли поклониться встающему богу, отдаться во власть живоносных лучей, щекочущих струй, вы берете жменями воду и сыпете друг в друга самоцветными каменьями, потому что все это — ваше! Я — водяной царь, — дарю принадлежащее вам по праву.
Но вы испугались? Вы увидали меня, в вас заговорило старое поверье — «мужской глаз красную девицу сглазит»? Полно!
В беспокойных движениях я чувствую гордый и радостный вызов, в темных омутах глаз плещет, заманивает русалка, и рвется наружу знойно-волнующий смех.
Примите меня в свой хоровод… Но они бегут и смеются; в белой пене розовеют молодые плечи и груди… Пусть! — я не гонюсь за вами, — я знаю, что с новым утром вы сами вернетесь ко мне…
Там, где лепечут еще не затихшие воды, стелет свою жгучую сеть пылающее солнце…
Мы сидим у шалаша бахчаря, на жестком степном сене, а перед нами льется расплавленное золото песка и неба…
Далеко тянется известковая равнина, спускается с холма между цепких стеблей кавуна и ползет дальше во все стороны — как рассыпанное просо…
Беззвучно внизу и на небе, неслышно рябит воздух и упругой тяжестью ложится на мозг.
Долго мы шли под иглами солнца, — устали спины и ноги, потрескалась кожа, вспухли, полопались губы.
И пока взбирались на холм к шалашу — не было мыслей и не хотелось смотреть вперед, обманывать себя кажущейся близостью.
Перед нами на корточках дид с рыжей редкой бородкой, в артиллерийской фуражке с офицерской кокардой. У ног его арбузы; он медленно берет их один за другим, крякает и пробует их ладонями — готовы ли?
Глаза его серьезны, и в них дрожит усмешка — он привык к зною, с детства дышал он жгучим дыханием степи.
— Та-ак… — тянет он часто и добродушно-насмешливо взглядывает на нас.
И я хочу улыбнуться ему в ответ, мне нравится его лукавая усмешка, но рот не складывается в улыбку, бессильно падают веки.
В шалаше, под боком, за камышовой стеной возятся, кудахчут куры, просовывают клювы между камышинок, бьются о них крыльями.
— Ишь, дуры лобатые, — добродушно тянет дид, но не поворачивает головы и сидит по-прежнему на корточках.
В стороне синий дымок вьется, под ним на тлеющем кизяке стоит черный от копоти чайник. Это для нас дид готовит чай.
— Так, та-ак… — бормочет он.
И хочется плотнее закрыть веки, забыть, что над тобой солнце, а под головой колючее сено, но плавно, как на волнах, начинают колебаться бессвязные мысли, и в испуге широко открываются глаза.
— Жарко у вас, — говорю я присохшим ртом, силясь собрать уходящую бодрость, интерес к новому.
От моих движений так же быстро, как и я, открывает глаза товарищ. Полинялая студенческая фуражка съехала ему на правое ухо, лицо — точно придавленное какой-то остановившеюся мыслью.
— До черта, — сипло вторит он мне…
А дид по-прежнему чуть видно улыбается одними глазами.
— С дороги… ничего, приобыкнете…
Почему-то подмигивает левым глазом. Потом строго-внимательно водит глазами по нашим ружьям и ягдташам с крыльями убитых кречетов и неопределенно тянет:
— Да-а…
Я чувствую, что ему странны здесь, в степи, наши ружья, крылья убитых птиц, студенческие фуражки, но не стараюсь объяснить себе, почему это так.
— Пусть, — почти вслух говорю я.
Молчит полуденная степь с ярко-бирюзовым небом над ней, с далекими точками кречетов, ровной лентой железнодорожного полотна. Замерли там, на горизонте, ветряные мельницы — точно высохшие пауки, пришпиленные булавками.
Но вот выбрал, наконец, дид арбуз, достал из-за шаровар нож, сочно вонзил его в мякоть, быстро повернул два раза, и в две стороны развалились две половины, мелькнув влажными, розовыми кругами.
— Как кровь, — убежденно кивает нам бахчарь и лезет в шалаш за ложками.
С громким кудахтаньем бросаются ему навстречу в открытую дверь куры. Радостно хлопают крыльями и разбегаются.
— А, черт, — доносится из шалаша, но дид не выходит, долго копается там, бормоча что-то.
Сильно ноет левое плечо от жесткого сена, но нет сил перевалиться на другую сторону.
Товарищ, не дожидаясь ложки, жадно схватился за одну половину арбуза и прильнул губами к розовой мякоти, точно желая всосать ее всю в себя. Нервно ширятся воспаленные ноздри, вдыхая влажность.
И когда дид вылезает из шалаша, мы оба уже покончили с арбузом.
Но старик, кажется, забыл о нас и, поднявшись на свои крепкие ноги, ставит