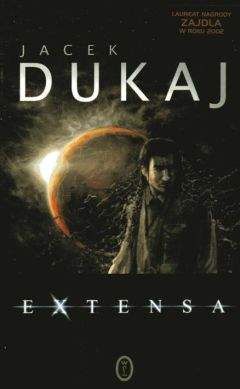Не знаю… — Она пожевала нижнюю губу. — Так это правда, с этой нирваной? Я могла бы так выбрать? Чтобы зубы… ну, ты понимаешь. Могла бы?
— Да.
Девочка наморщила брови в глубокой задумчивости.
— А эта скупка еды… Собственно говоря, почему бы и нет?
— Потому что те состояния, которые я здесь назвал нирванами, касаются не только отдельных людей, но и целых их групп. В обществе, организованном подобным образом, казался бы тебе естественным, даже необходимым. И наоборот: для людей в сверх-нирване определенные способы организации общественной жизни более удобны, но другие — просто невозможны. Как только ты пересечешь определенный порог, то ли путем индивидуальных, то ли общественных перемен, последующих перемен удержать уже невозможно, они становятся лишь вопросом времени. Так вот, занятие куплей-продажей, купечество, находится уже за этим порогом — точно так же, как автомобили, самолеты, поезда, небоскребы… Ты видела их всех в книжках, и они тебе нравились, так? Мы могли бы их иметь, если бы только захотели. Но тогда бы мы уже хотели и чего-то большего, и еще, и еще… пока, в конце концов, не желали бы ничего, что ценим теперь. Ты понимаешь, к чему я веду?
Она отрицательно покачала головой.
— Ладно, — вздохнул я, — как-нибудь еще вернемся к этому.
— Мы должны выращивать помидоры, чтобы у нас могли болеть зубы? Так, папа…!
— Что, глупости? Может ты и права…
Это не важно, что она не поняла, не поверила; я ведь знал, что не поймет. Но в какой-то форме мои слова запомнит, и идея запустит в ней корни, появятся вопросы и сомнения, которые иначе не привились бы; то есть, снова я перекрыл перед девочкой миллиард возможных жизненных путей, зато открыл миллиард других.
Я натянул перчатки, Зуза подала мне нож. Солнце клонилось к закату, Сйянна махала нам и кричала что-то с дворика, Сусанна что-то ответила. Ну да, я склонял ее машину к собственному ритму, разгонял ее зубчатые колесики до собственной скорости… Экстенса уже перемалывала в порошок и пожирала кометы и небольшие астероиды, межзвездную пыль я притягивал уже собственной массой. Еще раз выпрямиться и раскинуть руки — на тридцать тысяч километров. Помню, что тем вечером разыгралась гроза, и я читал детям про Золушку. Небо было покрыто тучами, несколько дней я не мог ворожить по Луне, впрочем, ворожить и об отсутствующем, тем более — Отсутствующем? — так что я и не надеялся на это.
* * *
На похороны отца я забрал Сйянну и детей. Поехали, как только пришло известие, то есть, днем заранее; пришлось спать в одной из гостевых комнат старого дома. Снова дом был полон родственников, соседей, знакомых, малыши гонялись один за другим по коридорам, балконам и вокруг домов; взрослые обменивались старыми и новыми сплетнями, собаки лаяли, новорожденные вопили, мать и тетки крутились на кухне… Поминки, свадьба, никакой разницы.
Гроб выставили в боковой комнате на первой этаже, между чашами с курениями. Отец мало был похож на себя; лицо разъехалось в стороны, оно было водянистых, опухшим, а повязка, удерживающая челюсть на месте, придавала ему вид злобной заядлости. Сколько это ему было лет, пятьдесят? Как-то так; но точно я не был уверен. Отца побрили, но щетина вновь появлялась на коже. Я стоял и глядел, а в груди перемещалась какая-то горячая тяжесть, какой-то органический клубень: вверх, к ключице, так, что я невольно склонялся к гробу и дышал через раскрытый рот, волокна центральной экстенсы длиной в многие и многие мили, толщиной в дюйм, сворачивались в ритме моего дыхания; периферическая экстенса дрожала и морщилась — от той дрожи, что шла по моей коже, когда я вспоминал, как он сходил, выпрямившись, со светлой веранды в темный вихрь, лампа в высоко поднятой руке, уверенным шагом, мрак отступал перед ним, и бежали демоны ночи… а теперь он лежит и гниет, посеревшая кожа, грязная посмертная щетина, кукла из жира и складчатой ткани.
Я вышел на задний двор. В коралле Лариса гоняла на длинной лонже жеребую кобылку. Я подошел к ограждению, оперся о жердь. Сестра глянула через плечо. Я вынул сигареты. Она ответила отказом. Я закурил.
— Как это случилось?
— Под дождем. Легкие. Три дня. Быстро; Доктор не успел, ездил куда-то с визитом. Высокая температура, горячка и вообще. Немного помучился. И конец — во сне.
— Время у него было?
— Было; но нет. Впрочем, никто не ожидал.
— Как мать?
— Куча дел. Хуже будет после похорон, когда все разъедутся… Останешься?
— На сколько?
Она пожала плечами.
— Через неделю у меня Совет, — буркнул я.
— Займешь его место?
— Наверняка да.
— Дети у тебя удались.
— А как же.
Появилась жена Натаниэля, разыскивающая внучат, и если даже Лариса чего-то и хотела мне сказать, уже не сказала.
А эта кобылка (Факел, дочка Пламени) с взаимностью влюбилась в Сусанне; малышка, в конце концов, выклянчила ее у тети. Петр же вернулся с похорон дедушки с двумя щенками из последнего помета одной из сук Даниэля. Сомневаюсь, чтобы Петр хоть что-то запомнил из самих похорон; деда он наверняка не помнил. Мы похоронили отца за ручьем, под вербами. Под самый конец, уже после речи Пастора, полил дождь; большинство не стало дожидаться, когда закопают могилу и поставят крест. Уходя, я начал высматривать детей. Сусанна с Петром спрятались от дождя под громадным дубом. Я перескочил ручей. Петр уже дремал, Сусанна задирала голову и что-то высматривала в ветках. — Что там? — Ничего. — Что-то увидела? — Нет, ничего. — Пошли, нельзя во время грозы стоять под деревом.
Той ночью я не мог заснуть. Вступил в плотное водородное облако, экстенса раскрылась, словно голодная яма, потоки горячей энергии кружили во мне со скоростью света, жилы и артерии свербели, нервы горели, позвоночник царапал о мышцы. Сначала я стоял возле открытого в ночной дождь окна (в комнате не было никакого света) и курил травяные сигареты. Дети спали, закутавшись в одеяла, с повернутыми друг к другу личиками, со слегка покрасневшими щечками, полуоткрытыми ротиками. Сйянна тихонько похрипывала на диване, голова безвольно упала на спинку. Энергия внутри меня была настолько огромной, что я попросту должен был сдвинуться, сделать что-то неожиданное и неотвратимое, рука с сигаретой дрожала у меня перед глазами — я вышел, как можно скорее, лишь бы не глядеть на них, лишь бы отодвинуть искушение, потому что кулаки уже сами сжимались.
На веранде я застал Леона Старшего. Он не спал. Увидав меня, вытянулся на стуле чуть ли не горизонтально. — Ты хоть понимаешь, как от этой сырости меня скрючивает? — забормотал он, указывая на продолжение культи. Я сбежал от него на балкон второго этажа. Доски скрипели под ногами. Я обходил дом, заглядывая в темные комнаты. Но в одной из них было светло. Я остановился. Свет исходил из окна пристройки, я очень четко видел в желтом блеске ничем не прикрытой лампы тот выступ стены, с которого когда-то, вместе с Ларисой, подглядывал за Смертью. Но кто жил там сейчас? Угадать это никак не удавалось. Я выбросил сигарету, перебросил ноги через балюстраду. Медуза палила мне в спину, космос был на моей стороне. Я прыгнул. Ноги скользнули по мокрым кирпичам — я замахал руками, под пальцами все было скользким, никакой опоры, никакой возможности ухватиться, я летел вниз; в последний момент встретился старый крюк, но он тоже не выдержал, лишь распанахав мне ладонь. Я ударился о землю. Через экстенсу прошли огромные волны боли, на момент даже звезды померкли. Я упал на левый бок, хоть в этом повезло. Я мог двигаться. Уселся в луже холодной грязи. В бедренном суставе что-то хрупнуло. Я переждал десяток вдохов-выдохов. Поднялся. Волны успокаивались, сейчас ко мне возвращались их вторые и третьи отражения. Поплелся, хромая, вокруг дома, в кухню: нужно промыть ладонь, похоже, железо прошло до самой кости.