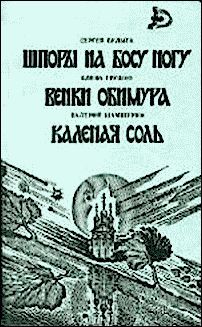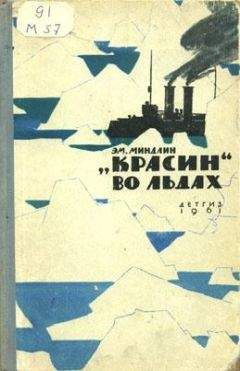Скажи она такое в Отделе!.. А тут разом почувствовали: не просто глупо -- смешно собачиться, когда мокры насквозь, когда вид у обоих самый дурацкий. Пришлось улыбнуться.
Юлия неловко обхватила себя за плечи:
-- Холодно! Побегу.
Приоткрыла дверь, а там -- вода стеной, и снова треск, и снова белая стрела вонзается в землю,
-- Ой!.. Вот попалась. Угораздило же меня у Антонова так засидеться.
-- В гостинице?
-- Да. Между прочим, о вас говорили. Михаил Афанасьевич просил похлопотать за него. Ему очень хочется участвовать в опыте.
-- Да ради бога! Помолчали.
-- А почему вас никто не проводил? -- вспомнил Егор о Дубове и его поглядываниях на Юлию. Воспоминание почему-то нагнало тоску.
-- Да кому же? -- удивилась Юлия.-- Михаил Афанасьевич до того устал сегодня, что ему нехорошо стало. А Дубов и Голавлев -- ну их!
Это прозвучало у нее так искренне, что Егор подумал: "Ну сколько мы будет дрожать в подъезде? Кого угодно я уже пригласил бы в тепло, Дубова того же! А ее боюсь... Боялся! Нет, сейчас она другая".
-- Похоже, дождь и не собирается прекращаться. Пойдемте чаю выпьем, что ли. Я ведь тут живу -- на третьем этаже. Согреетесь, обсохнете. Иначе... Институт лишится ценного специалиста.
Фу, какая чушь. Однако еще утром отвесил бы подобное не морщась. А сейчас...
Юлия смотрела на него как-то очень уж снизу вверх. А, понятно: без каблуков, босиком.
-- Ну что же,-- согласилась, подумав.-- Горячий чай -- это здорово. А то и правда не миновать ангины. Сейчас это мне не ко времени.
Пошли. Он впереди, указывая дорогу. Случайно обернувшись, увидел, что она украдкой отлепляет от тела мокрое платье. "Да, ей нельзя простудиться. Это мне какая разница: ангина, температура, Осталось всего ничего, авось не помру до 7 июля. Странно, так ждал, а порою забываю... Все, все, неужто?"
-- Ну, промокли, что-то страшное! Проходите, не пугайтесь, тут не очень прибрано. Живу анахоретом. И вот что: идите сразу греться под душ. Одежки свои просушите, в ванной змеевик и летом горячий.
Она безропотно ушла. Под дверь Егор положил полотенце, кое-что из своей одежды. А сам заметался: чайник ставил, ополоснул оставшуюся от завтрака посуду, растолкал кое-что по углам, подмел...
Шумела вода за стеной, потом стихла. Дверь приотворилась, он услышал, как Юлия рассмеялась, увидев приготовленную ей одежду. Но ничего, не жеманилась.
Затем ее шаги прошелестели в комнату, а Егор, крикнув: "Я сейчас!" -тоже ринулся под душ. Ох, счастье... Нет, человеческое тело умеет наслаждаться, как никакое другое!
Чуть согрелся -- и пошел чай готовить. Заварил с мятой, принес чашки в комнату.
Юлия стояла у стеллажей и перелистывала Шергина. Она была в старой тельняшке Егора и джинсах, подвернутых до колен. Волосы влажными кольцами, лицо горит. Подняла глаза, улыбнулась Егору и кивнула на разросшиеся от пола до потолка герани:
-- Диво дивное! Никогда такого не видывала!
А Егор смотрел на нее. Господи! Кто это? Это -- Юлия! И даже не покорность неожиданная смутила его, а вот эта тихая улыбка, от которой подрагивают уголки рта...
-- Вам идет это. Ходите так всегда, -- сказал Егор. -- Подарить вам тельняшку, что ли? -- Он поставил сахарницу, конфеты, заварник принес.
Юлия ахнула:
-- Да это же дворец!
Чайничек был четырехугольный, расписанный зелеными и золотыми птицами. Чай дышал мятой. Глаза Юлии мягко мерцали.
-- Как хорошо. Как хорошо!
Егор почувствовал, что у него руки похолодели. Кажется, дождь стихает? Нет, не может быть. Не надо! Время, не беги!.. Как утишить твой бег? Помнит ли он заговор, который замедлил бы время? Нет, Изгнанник всегда умел только торопить его: еще год, десять, сто -- быстрее, быстрее! И вот теперь, когда все идет к концу, вдруг ищет иные слова. Но есть ли на свете слова кроме тех, что вдруг пришли к нему?
...Мечитесь, тоски, бросайтесь, тоски, кидайтесь, тоски, в буйную ее голову, в лик, в ясные очи, в ретивое сердце, в ее ум и разум, в волю и хотение, во все ее тело белое, во всю кровь горячую, и в семьдесят семь жилочек и поджилочек, чтоб она думала обо мне -- не задумывала, спала -- не засыпала, пила -- не запивала, ела -- не заедала, чтобы я ей казался милее свету белого, милее солнца пресветлого, милее луны прекрасной, во всякий день, во всякий час, во всякое время: на молоду, под полн, на перекрое и на исходе месяца...
Встал. Нет, что за глупости! Ведь мята в ее чашке, мята, а не присушливый девясил, не любка-ночница, не Оден-трава! Охолонись! Где спасенье?.. О, телевизор! Сколько уж не включал его -- не порос ли мохом? Странно, заработал!
Застоявшийся аппарат нагревался долго, не пуская на экран изображение. Слышался только поющий на чужом наречии женский голос -- и холодноватые слова переводчика:
-- Всю жизнь я мечтала, чтобы кто-нибудь полюбил меня с первого взгляда. О, какое настанет счастье, думала я. Ждала годы, годы, годы. И вот наконец это случилось. Появился ты -- и полюбил меня. Почему же я не радуюсь, мой милый, ведь я тоже полюбила тебя? Но были годы, годы, годы. Никуда не спрятаться от них, от того, что принесли они -- и что отняли...
Юлия выключила телевизор и подошла к окну. Освещенная комната висела в воздухе за темным стеклом. Там, во дворе, росла одинокая сосна, и чудилось, Юлия стоит, не касаясь земли, около этой сосны.
Егор подошел и стал рядом. В ее влажных волосах запуталась тополиная пушинка, и надо было непременно убрать эту пушинку, но он не мог решиться коснуться волос Юлии рукой... и коснулся губами.
Она откинулась на его плечо и стояла молча. Погас свет.
И стало темно и черно. И увидел Изгнанник очертания полета. В полете был корабль. Он медленно плыл в черной ночи, сам весь темный и одинокий. И вдруг вспыхнул огонь на его борту. И еще один. И другой!.. Потянулась цепочка огней... и еще немного осталось... о Господи, о милая!.. Вот, наконец-то. Венок огней, венок счастья плывет по волнам небесной реки! Трижды вспыхнул он и погас, и выдохнул Изгнанник самое ласковое слово, какое выучил на Земле:
-- Ты моя травинка. Ты моя травиночка!..
* * *
Когда Егор вошел в лабораторию, Наташа посмотрела на него с привычной робостью -- и вдруг ласково улыбнулась.
-- Наташа, а ведь я никогда не видел, как вы улыбаетесь, -- удивился Егор.
-- Я в ответ, -- сказала она.
-- Намек понял...-- Егор стиснул зубы, пытаясь остановить шалую улыбку, но не смог.
Натуша, рассмеявшись, пошла к грядкам, а Егор достал мнемограф. Надо все-таки расшифровать вчерашнюю запись. А Дубов никогда и не узнает, что его "сновидение" записано. Можно обозначить пленку какой-то вымышленной фамилией, и потом, когда Егора Белого здесь уже не будет, никому не догадаться, чью это память разбудил аромат трав. Егор не скажет, не успеет. Сегодня ночью он принял сигнал: близок отлет. Чем же еще, как не сигналом, могло быть это видение корабля, вспыхивающего радостными огнями? Три вспышки -- три дня, все правильно. Скоро, скоро!