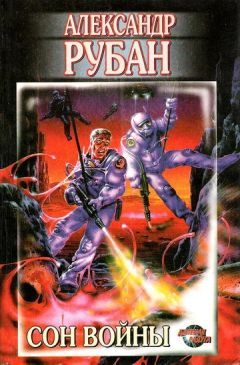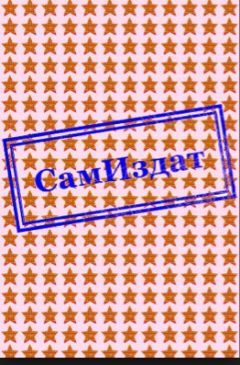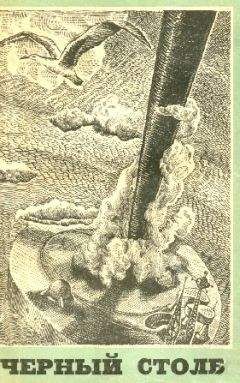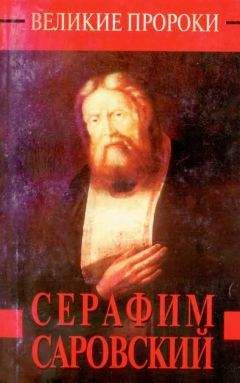— Нон професьональ!.. — сказал он вполголоса на непонятно каком языке. Скорее всего, на вымышленном. Зато и мнение выразил, и на судьбу посетовал, и беднягу Колюнчика не оскорбил.
Между тем Колюнчик, ловко орудуя лезвием табельного тесака, надрезал и отделил кружок наружного, жесткого слоя упаковки, положил его, перевернув, рядом со свертком и в эту чашу стал выкладывать комки просушенной гигроскопической пены, пока не показался под нею бесцветный и почти бесформенный завиток раковины. На этом, собственно, можно было и остановиться, ибо никому и никогда еще не удавалось упаковать не целую раковину, а ее часть. Но Колюнчик не остановился. Не то демонстрируя (кому?) профессионализм и выучку, не то просто чтобы оттянуть время, он осторожно и точно запустил пальцы между пеной и раковиной — так, чтобы не дай Бог не задеть последнюю. Я и хозяин свертка следили за ним, затаив дыхание, и даже Харитон Петин по ту сторону барьера вытянул шею — как-то по-петушиному, вбок… А Колюнчик все шарил и шарил, старательно убеждаясь, что кроме пены и раковины, в свертке ничего нет, и, убедившись, выволок наконец наружу свои, как выяснилось, довольно ловкие грабли.
Вот тут-то и произошло неизбежное — потому что Колюнчик совсем забыл о своей фуражке. Он уже собирался уложить обратно вытащенную из свертка пену, когда фуражка подмяла-таки его большое ухо, соскользнула, стукнулась об эполет и, отрикошетив, задела мокрым от пота околышем невзрачный бесформенный завиток.
Со звонким рассыпчатым шелестом своей последней песни марсианская устрица обратилась в прах, и этот прах, кружась, осыпался на мягкое дно упаковки крохотными металлокварцевыми чешуйками… Жалобный вздох пассажира был похож на последнюю песню его сокровища, Харитон с мужественным сожалением крякнул, а белые пятна на багровой физиономии Колюнчика полиловели.
Впрочем, пассажир, в отличие от Колюнчика, почти сразу взял себя в руки. Не дослушав бормотаний младшего исправника (о том, что он «сегодня же, сейчас же, вот только смена закончится, их тут много и совсем рядом, всего несколько верст по Пустоши…»), пассажир сухо заметил, что через два часа — посадка, а он еще не отбил радиограмму в Тихо Браге, чтобы знали, каким рейсом встречать. Колюнчик (с его лица еще не сошла багрово-лиловость) снова открыл было рот, но пассажир его снова прервал.
— Полноте, сударь, не с чего так убиваться, — сказал он неожиданно мягко. — Работаете вы отменно, и винить надлежит не вас, а ваше начальство, за то, что выдало вам амуницию на размер больше, чем следует. А я не в первый и не последний раз на Марсе и давно перестал коллекционировать сувениры из Диаспоры… Надеюсь, однако, что теперь я могу пройти?
Колюнчик оторопел от столь миролюбивой речи (выходит, специально рассчитывал на затяжной скандал?) и автоматическим жестом разблокировал турникет. Пассажир, предварительно подав ему фуражку, прошел на нейтралку. Харитон сразу же подобрался, выпустил дубинку и утвердил руку на кобуре: на тот случай, если я опять попытаюсь рвануть следом, как месяц тому назад. И стоял так, в напряженно-свободной позе, пока турникет не был опять заблокирован.
А я не стал пытаться. Я законопослушно дождался щелчка блокировки, шагнул к барьеру, снова ставшему сплошным, и выложил на него свою папку с документами: декларациями, справками, поручительствами, рекомендациями и прочим, и прочим… Включая, разумеется, мой бессрочный билет на любой из рейсовых, а равно и нерейсовых кораблей, который влетел мне в копеечку.
— Следующий, — буркнул наконец Колюнчик, надевая фуражку и старательно не глядя на меня.
Я протянул ему паспорт и раскрыл папку.
— Багаж на барьер, пожалуйста, — буркнул Колюнчик.
— Багажа нет, Николай Иванович, — сказал я и приветливо улыбнулся ему в козырек. — Здравствуйте.
Он вздохнул и поднял на меня свои зеленые, с марсианской желтинкой, глаза. В глазах были тоска, и страх, и чувство долга, не записанного ни в каких регламентах.
— Вам не улететь отсюда, господин Щагин, — заявил он мне вечером осьмого дня, когда я разлил по стопкам какую-то там по счету фляжку «Марсианской Анисовой».
— Зови меня Андрей, — предложил я и поднял свою стопку.
— Вы никогда не улетите отсюда, Андрей… — повторил он, глядя на меня с тоской и страхом своими честными по молодости глазами.
— И давай наконец на «ты», — сказал я. — Сколько можно?
Мы выпили и троекратно, накрест, поцеловались. Добрую половину своей стопки я незаметно вылил в грибной салат.
— Понимаешь, Андрюша… — проговорил он, давясь непросоленным груздем, глотнул наконец и помотал головой. — Ты навсегда останешься на Марсе, понимаешь? Навсегда!
— Плевать, — небрежно заявил я, потому что еще не настала пора откровений. — Давай-ка поищем тему повеселее, Колюнчик. Как насчет повторить?
— Нет, ты не понимаешь! — горестно констатировал он, утверждая оплывшие щеки в ладонях, а локти на скатерти. Я поспешно убрал из-под его локтя братину с остывшим сбитнем.
— Жизнь хороша, Колюнчик, — сказал я. (Он с тоскливым интересом смотрел на меня затуманенными глазами. Но еще не вполне затуманенными.) — Жизнь везде хороша, где есть приятные собеседники, — продолжил я. По-моему ты из таких. Но ты зациклился на скучной теме, и нам необходимо повторить.
Я постучал ногтем по опустевшей фляжке.
Официант (мой однофамилец и почти что ровесник Мефодий Щагин, бывший со мною в сговоре) принес нам еще одну фляжку, а пустую забрал. Колпачок с нее он снял и оставил, присоединив к остальным, лежавшим на краю столика..
Разливая анисовку, я скосил глаза и пересчитал колпачки. Десять. Нет, девять: десятую мы сейчас начнем. Два литра на двоих, двадцать пять градусов… Не переборщить бы — скисает Колюнчик.
Николай Стахов был четвертым из таможенников, которых я пытался споить. Втереться. Подкупить. Дабы вырваться за пределы Дальней Руси, официально именуемой Суверенной Марсовой Губернией. Или хотя бы выпытать причины, по которым меня держат здесь.
Трижды я ничего не добился. Трижды я был бит плетьми и отсидел в общей сложности осьмнадцать суток за попытку подкупа должностных лиц. Все трое были старыми, тертыми, хитрыми и продажными — вот только продавали они, в конце концов, меня. Я ставил на продажность и проигрывал. А потом решил поставить на молодую честность и, кажется, не ошибся.
Позарез необходимая мне информация уже распирала его и была готова хлынуть наружу. Но чувство долга и незаглушенный страх могли остановить поток. В самый неподходящий момент.