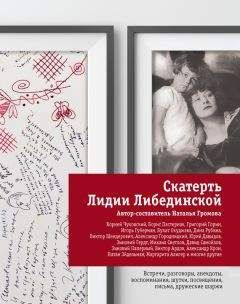Я сажусь рядом и приваливаюсь к ней спиной.
Смотрю на небо и вдруг показываю язык луне.
Если чего-то очень боишься, то покажи своему страху язык.
И попытайся рассмеяться, тогда страх исчезнет.
Я не помню, кто научил меня этому.
Навряд ли Старшая Мать, ее не интересуют такие глупости.
Ее интересует одно: как сделать так, чтобы все обитатели жилища не голодали, чтобы в бочках горел огонь и чтобы каждый год рождался хотя бы один ребенок.
Для чего и устраивают карнавал.
Я думаю о карнавале.
Мне очень хочется спать, спине тепло, луна, которой я показал язык, смотрит на меня уже не так устрашающе.
Про карнавал мы частенько говорим ночами, когда все взрослые уже спят.
С Белкой и Димоном, моим приятелем.
Это меня Белка недолюбливает, а Димону она строит глазки.
Недавно Димон мне сказал, что в этом году Белка хочет участвовать в карнавале — у нее уже начались месячные, и ей можно играть с мужчинами.
Будто бы об этом ей заявила Старшая Мать, когда Белка пожаловалась, что у нее между ногами кровь.
И тогда Белка сказала Димону, что вот он еще маленький, а она уже большая и будет участвовать в карнавале!
Внезапно я вижу какую-то тень, мне опять становится страшно.
Тень прыгает на колени и урчит.
Это тот самый котоголов, из-за которого я сегодня вляпался.
Наверное, пожалел меня и решил побыть рядом, чтобы мне не было грустно.
И чтобы отгонять ночной ужас.
Котоголов устраивается поудобнее, я глажу его по шерстке и вдруг решаю посмотреть на луну.
Она уже не такая грозная, всего лишь большой желтый шар, болтающийся в небе.
Между звезд, которых сегодня очень много.
Странно, иногда их меньше, иногда — больше.
Как-то раз мы с Димоном решили их пересчитать, но примерно через полчаса поняли, что это бесполезно.
Утром Старшая Мать долго смеялась, когда мы рассказали ей об этом.
И объяснила, что каждая из звезд — это такое же солнце, как наше. Только иногда больше, а порой и меньше. И их так много, что никто и никогда не мог их сосчитать.
Мне нравится смотреть на звезды.
Гораздо больше, чем на луну.
Я очень хочу спать, но мне нельзя этого делать.
Я пытаюсь думать о том, что сейчас происходит в жилище.
Играют ли там в биоскоп, и чему посвящена сегодняшняя игра.
Белка говорила, что даже матери света иногда играют в биоскоп для взрослых, будто бы в тот раз, когда ей удалось подсмотреть, Старшая Мать была совсем раздета и кружилась среди мужчин, будто танцуя. Белка испугалась смотреть дальше и убежала.
Небо стало совсем темным, хорошо слышно, как перекрикиваются ночные птицы.
Я перестаю думать о биоскопе и начинаю размышлять о том, что сейчас делает седобородый мужчина, который помог мне найти дорогу обратно.
Скорее всего, он спит, как спит и его собака.
Мне вдруг становится стыдно, что я не назвал ему своего имени, пусть даже этим я нарушил бы правило.
Но ведь он вывел меня из незнакомого леса в знакомые холмы и сам сказал мне, как его зовут.
Странное имя: Хныщ!
Скорее, даже не имя, а прозвище.
И собака его мне понравилась, а еще понравилась серьга.
В нашем жилище серьги носят только женщины и девочки.
Даже у Белки есть сережки — маленькие голубые камушки, которые иногда переливаются на солнце.
И глаза у Белки тоже голубые.
Спине становится холодновато, надо плеснуть в бочку из ведра.
Я встаю, котоголов сваливается с колен и раздраженно шипит.
— Подожди, — говорю я ему, — сейчас опять залезешь!
Ведро стоит рядом с бочкой, оно тяжелое — интересно, как Белка поднимала его?
Я подливаю в бочку, пламя вспыхивает ярче.
Опять можно сесть, котоголов снова вспрыгивает мне на колени.
Я вдруг понимаю, что мне безумно хочется увидеть какой-нибудь сон.
И лучше всего — тот самый, про огромные и серые дома с пустыми черными окнами.
— Город, — говорит мне во сне Хныщ, — я когда-то в нем жил!
— Там не живут, — говорю я, — там все мертво!
— Это тебе кажется, — говорит Хныщ, — там и сейчас, скорее всего, есть люди.
— А что произошло? — спрашиваю я.
Хныщ не отвечает.
Старшая Мать тоже никогда не отвечает, когда мы ее спрашиваем о том, почему живем здесь и куда делся искусственный свет.
— Маленькие еще! — говорит она. Или грубее: — Не вашего ума дело!
Хныщ, наверное, так никогда не скажет, а если решит ответить, то я услышу правду.
Но для этого мне надо будет опять идти в холмы и искать пещеру, в которой он живет.
Наверное, я сделаю это.
После карнавала.
А пока я должен караулить бочку с огнем и не спать.
Котоголов спит, а я не должен.
Хотя это единственное, чего мне хочется.
И я засыпаю, а просыпаюсь, оттого что котоголов будит меня, сильно прикусывая ухо.
Слышны голоса, кто-то идет.
Наверное, мне на смену.
Мне отчего-то совсем не стыдно, что я уснул.
И совсем не хочется рассказывать Старшей Матери приснившийся сон.
Я стою у бочки, огонь горит ровно, на всякий случай подливаю еще немного жидкости из ведра.
Котоголов тщательно моет мордочку лапками, а потом вдруг пропадает, будто его и не было.
Только совсем уже побелевшая луна все еще висит в уголке неба, будто напоминая, что незаметно подкравшийся свет вновь исчезнет, и опять восторжествует тьма.
5.
С утра Старшая Мать собрала всех и объявила, что пришла пора готовить маски для карнавала и что на это отводится всего три дня.
Из года в год маски делались снова: старые сжигали сразу же, как наступало утро за последней карнавальной ночью.
Три дня и три ночи, когда большая часть жилища оставалась пустой, и лишь они, еще не достигшие возраста, в котором можно надеть маску, были на своей половине под присмотром одной из матерей, получавшей на это время звание «дежурной».
Тимус, Димон, Белка и остальные.
Еще в прошлом году Димон подбивал их убежать вечером в холмы и посмотреть, что там творится.
— Нас накажут! — сказала тогда Белка, и они остались. Дежурной матерью в прошлом году была Монка, и она предложила им поиграть в детский биоскоп, выбрав какую-то странную историю про девочку с замерзшим сердцем.
Девочку играла Белка, Димону же досталось быть мальчиком, который должен это сердце отогреть.
Тимусу нравились другие истории. Больше всего он любил, когда играли в Человека Летучую Мышь, но для этого требовалось много народу, на его памяти эту историю разыгрывали всего то ли два, то ли три раза.