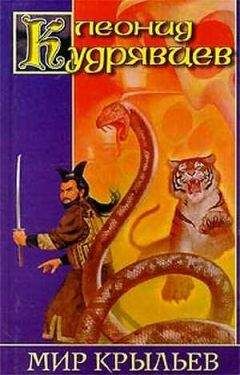Впервые за весь вечер Флеровский ответил неопределенно. Я перевела разговор на другую тему — о нефти.
— Нефть? — переспросил Флеровский. — Через неделю мы добрались и до нефти. Только в другом месте, подальше от центра взрыва. Ну, тогда и начались неприятности. Нефть прорывалась, фонтаны били с невероятной силой: давление в недрах оказалось колоссальным… Вообще, сюрпризы были самые неожиданные. В одной буровой, например, ударил фонтан метилового спирта. По-видимому, водород взаимодействовал не только с углеродом, но и с окисью углерода, которой насыщен угольный пласт. Кое. где уже после взрыва шли вторичные реакции — мы обнаружили такие вещества, как толуол, фенол, тетраметилэтилен… И все-таки новый город в тайге мы назвали в честь первого открытия — Алмазогорском.
Я подумала, что Флеровский шутит.
— Нисколько! — он решительно взмахнул рукой, словно отметая возражения. — Сначала это был небольшой поселок при шахте. Даже без названия. Через несколько месяцев выросли дома, магазины, построили Дворец культуры, словом, получился уже поселок городского типа. Ну, и я как депутат поселкового Совета предложил назвать поселок Алмазагорском. А теперь Алмазогорск — настоящий город. По глазам вижу — не верите. Что ж, взгляните на фотографии.
Флеровский вынул из кармана пачку фотоснимков и положил на стол. Я взяла их со странным чувством — ведь это был город, когда-то придуманный мной!
Впрочем, это оказался совсем другой город — намного красивее придуманного. Вдоль широких, асфальтированных улиц росли сибирские кедры, даурские лиственницы, пихты, сосны. Нарядные здания стояли у холмов, еще по-таежному заросших. На центральной площади высился обелиск с громадной алмазной звездой. У города было свое — неповторимое — лицо: сочетание сибирского простора с разумной красотой планировки.
— Оставьте себе эти снимки, — улыбнулся Флеровский. — Это уже почти история. Когда вы приедете к нам, все будет иначе, еще лучше, еще красивее. Алмазагорск растет быстро.
Флеровский больше ничего не сказал, но я догадалась — вокруг Алмазогорска создаются новые месторождения. Какие? Только ли алмазные и нефтяные?
— Знаете, Олег Павлович, — сказала я, — если бы мне пришлось писать рассказ заново, я написала бы его совсем иначе.
— Как?
— Теперь герои рассказа сделали бы больше. Они научились бы с помощью подземных термоядерных взрывов создавать любые полезные ископаемые. Люди перестали бы открывать месторождения полезных ископаемых и начали бы их создавать там, где это нужно. Но эго еще не все. Полезные ископаемые — только сырье. А термоядерными взрывами можно получать под землей готовые химические продукты. Получать без сложной и громоздкой аппаратуры, получать в любых количествах.
Флеровский рассмеялся.
— Между прочим, вы близки к истине. Конечно, вы все ужасно упрощаете. Взрывы, например, совсем не обязательны. Выгоднее управлять цепной термоядерной реакцией. Но в принципе вы правы.
…Уже расставаясь, в дверях, я спросила Флеровского, как мне поступить с алмазом.
— Я хотел сделать вам подарок, — ответил он. — Изобретатели и инженеры многим обязаны научной фантастике. Но я боюсь, что мой подарок почти ничего не стоит. Алмазы ожидает участь алюминия. Когда-то алюминий был дороже золота, а теперь из него делают кастрюли… В общем, этот алмаз очень скоро будет иметь только историческое значение. Знаете что? — Флеровский лукаво прищурился. — Сделайте себе из этого алмаза чернильницу. Да, да! Обязательно сделайте чернильницу…
Я — Время; ныне перед вами крылья
Я разверну. Не ставьте мне в вину
Мой быстрый лет и то, что я скользну
Через шестнадцать лет, ничем пробел
Не заполняя
В.Шекспир, Зимняя сказка.
Это был страх. Самый обыкновенный страх — навязчивый, липкий. Зорин никак не мог отделаться от ощущения, что проказа прячется где-то здесь, в комнате. Он устал, но боялся подойти к креслу. Он хотел пить, но боялся прикоснуться к графину. Проказа могла быть везде — даже в вазе с ландышами.
Стараясь заглушить страх, он быстро ходил по комнате. Тень металась по расчерченному квадратами паркету.
— Бациллы проказы, — бормотал Зорин. — Бациллы Хансена… Хансена? Да, да, конечно…
Больше он ничего не мог припомнить, и это только усиливало страх. Может быть, заражен и воздух? Может быть, вдыхая воздух, теплый, насыщенный пряным ароматом ландышей, он глотает и эти проклятые бациллы Хансена?
Он почти подбежал к окну, рванул раму.
Холод оттеснял страх. В окно залетали снежинки. Ветер осторожно подхлестывал их, они кружились деловито, чинно. В танце снежинок было что-то очень привычное, много раз виденное. Это успокаивало.
Сумерки скрывали очертания предметов, и Зорин никак не мог понять — вяз или осокорь растет напротив окна. Ему почему-то казалось очень важным определить породу дерева. Он щурил близорукие глаза, вглядываясь в наползавшую тьму.
Машинально он прикоснулся к оконной раме, и сейчас же ударом электрического тока вернул. ся страх. Нельзя было трогать раму! В этой комнате нельзя ни к чему прикасаться!
Неловко, тыльной стороной ладони он закрыл окно. Вытащил платок и принялся вытирать пальцы.
За спиной тихо скрипнула дверь. Зорин вздрогнул — нервы отзывались на звук, как туго натянутые струны, — обернулся, поспешно пряча платок.
В дверях стоял человек в коричневом костюме. Лицо и руки человека были скрыты бинтами. Дымчатые очки прикрывали глаза.
“Человек-невидимка”, — почему-то подумал Зорин.
— Товарищ Садовский? — голос Зорина выдавал его волнение. — Доктор Садовский?
— Да. Александр Юрьевич Садовский, — ответ прозвучал подчеркнуто вежливо.
Зорин шагнул вперед, протянул руку и сейчас же, спохватившись, отдернул ее.
— Очень приятно вас видеть, — пробормотал он, чувствуя, что краснеет, и понимая, что говорит глупость.
— Садитесь, профессор. — Садовский кивнул на кресло.
Несколько секунд они еще стояли друг против друга: высокий, чуть сутуловатый Садовский и низкий, очень полный Зорин. Потом Зорин рывком придвинул кресло. И странное дело — опустившись в кресло, которое минуту назад казалось ему таким страшным, он неожиданно почувствовал облегчение.
Садовский, прихрамывая, прошел к другому креслу.
Проказа, как тигр. В терпении, с которым она преследует жертву, есть что-то страшное, неотвратимое. Год, два, десять, тридцать лет она выжидает. Потом — прыжок, и когти впиваются в тело, рвут, терзают…