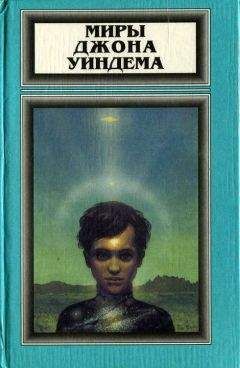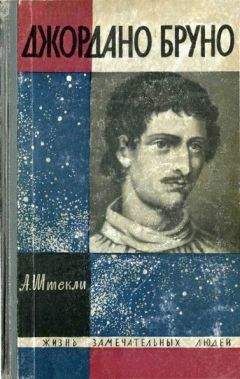Я пошел к нему. Он и впрямь лежал, вид у него был измученный.
– Устал, старик? - спросил я. - Ложись совсем. Я тебе принесу поесть.
Он покачал головой:
– Спасибо, папа. Не хочу.
Я оглядел комнату и увидел четыре новые картинки. Все ландшафты. Два стояли на камине, два на комоде.
– Это сегодня? - спросил я. - Можно посмотреть?
Я подошел поближе. На одном я сразу узнал докшемский пруд, на другом был угол пруда, на третьем - вид на деревню и холмы с более высокой точки, а на четвертом - что-то мне незнакомое.
Я увидел равнину. На заднем плане, на фоне ярко-синего неба, тянулась цепь древних на вид холмов, прерывавшаяся какими-то приземистыми, округленными башнями. Посередине, чуть вправо, высилась пирамида - огромная и не совсем правильная, потому что камни (если это вообще были камни) не были пригнаны друг к другу, а, если верить рисунку, громоздились кучей. Я не назвал бы ее сооружением, но и не сказал бы, что это природная формация. За ней извилистой линией располагались какие-то сгустки материи, иначе я их не назову, потому что таких не видел; быть может, это мясистые растения, быть может, - стога, быть может, - хижины, и дело осложнялось тем, что каждый из них отбрасывал по две тени. От левого края рисунка к пирамиде шла ровная, как по линейке, полоска и резко сворачивала к дымке у подножия холмов. Вид был мрачный и цвета невеселые, кроме яркой лазури неба: охряный, тускло-красный, серый. Сразу чувствовалось, что "там" сухо и ужасно жарко.
Я все еще смотрел и дивился, когда услышал сзади всхлипывания. Мэтью с трудом произнес:
– Это последние. Больше не будет.
Я обернулся. Он щурился, но слезы все же текли. Я присел на кровать и взял его руку.
– Мэтью, милый, скажи! Ну, скажи, что с тобой такое?!
Мэтью втянул носом воздух, откашлялся и выговорил:
– Это из-за Чокки, папа. Он уходит. Навсегда.
Я услышал шаги на лестнице, быстро вышел и плотно закрыл дверь.
– Что с ним? - спросила Мэри. - Болен?
Я взял ее за руку и увел подальше.
– Нет, - сказал я. - Все будет хорошо. - Я повел ее по лестнице вниз.
– Да в чем же дело? - настаивала она.
Здесь, в холле, Мэтью не мог нас услышать.
– Понимаешь, Чокки уходит… освобождает нас, - сказал я.
– Ох, как я рада, - сказала Мэри.
– Радуйся, только смотри, чтоб он не заметил.
Мэри подумала.
– Я отнесу ему поесть.
– Нет. Не трогай его.
– Что ж ему, голодать, бедняге?
– Он… Я думаю, они там прощаются… а это нелегко.
Она, недоверчиво хмурясь, глядела на меня.
– Что ты, Дэвид! Ты говоришь так, как будто Чокки и вправду есть.
– Для Мэтью он есть, и прощаться с ним трудно.
– Все равно голодать нельзя.
Я всегда удивлялся, почему это самые милые женщины не могут понять, как серьезны и тяжелы детские огорчения.
– Позже поест, - сказал я. - Не сейчас.
За столом Полли безудержно и невыносимо болтала о своих пони. Когда она ушла, Мэри спросила:
– Я думала… Как по-твоему, это тот тип подстроил?
– Какой?
– Твой сэр Уильям. Он ведь Мэтью загипнотизировал. А под гипнозом можно внушить что угодно. Предположим, он ему сказал: "Завтра твой друг уйдет навсегда. Тебе будет нелегко с ним прощаться, но ты простишься, а он уйдет, и ты его со временем забудешь". Я в этом плохо разбираюсь, но ведь внушение может вылечить, правда?
– Вылечить? - переспросил я.
– Я хотела сказать…
– Ты хотела сказать, что, как прежде, считаешь Чокки выдумкой?
– Не то чтоб выдумкой…
– А плавание? И потом - ты же видела, как он рисовал на днях. Неужели ты еще считаешь…
– Я еще надеюсь. Все же это лучше, чем одержимость, о которой толковал твой Лендис. А сейчас как будто про нее и речи быть не может. Смотри: он идет к этому сэру, а на следующий день говорит тебе, что Чокки уходит…
Мне пришлось признать, что кое в чем она права; и я пожалел, что мало знаю о гипнозе вообще, а о вчерашнем - в частности. Кроме того, я пожалел, что, изгоняя Чокки, сэр Уильям не сумел провести это как можно менее болезненно.
Вообще я сердился на Торби. Я повел к нему Мэтью для диагноза, которого не услышал, а мне подсунули лечение, о котором я не просил. Чем больше я думал об этом, тем больше мне казалось, что он действовал не так как надо, а, точнее говоря, своевольно.
Перед сном мы зашли к Мэтью - вдруг ему захотелось есть? У него было тихо, он мерно дышал, и, осторожно прикрыв дверь, мы ушли.
Наутро, в воскресенье, мы не стали его будить. Мэтью выполз очень заспанный часам к десяти, глаза у него порозовели, вид стал совсем рассеянный, но аппетит к нему вернулся.
Примерно в половине двенадцатого к дому подъехала большая американская машина, похожая спереди на пианолу. Мэтью, грохоча, скатился по ступенькам.
– Папа, это тетя Дженет! Я бегу, - задыхаясь крикнул он и ринулся к черному ходу.
День выдался трудный. Это было похоже на прием без почетного гостя или на выставку курьезов без главного экспоната. Мэтью знал, что делает. Весь день шла болтовня об ангелах-хранителях (с примерами "за" и "против"), а также о том, что все знакомые художники были весьма неприятными, если не опасными людьми.
Не знаю, когда Мэтью вернулся. Должно быть, он пробрался в дом (и, кстати, в кладовую), а после пролез к себе, пока мы болтали. Когда все ушли, я поднялся к нему. Он сидел у открытого окна и смотрел на заходящее солнце.
– Рано или поздно придется ее увидеть, - сказал я, - но сегодня и впрямь не стоило. Они ужасно расстроились что тебя нет.
Мэтью с трудом улыбнулся.
Я оглядел комнату и опять увидел те четыре рисунка. Пруд я похвалил, но не знал, говорить или нет о четвертой картинке.
– Это что, по-твоему? - все же спросил я.
Мэтью обернулся.
– Это где Чокки живет, - сказал он и немного помолчал. - Жуткое место, а? Потому ему у нас и нравится.
– Да, место не из приятных, - согласился я. - И жарко там, наверное.
– Днем - жарко. Видишь, сзади что-то вроде пуха? Это озеро испаряется.
– А это что за пирамида? - спросил я.
– Сам не знаю, - признался он. - То мне кажется это - здание, то - город. Трудно немножко, когда нет подходящих слов - ведь у нас такого не бывает.
– А это? - я имел в виду симметричные ряды холмов.
– Это там растет.
– Где "там"? - спросил я.
Мэтью покачал головой:
– Мы так и не выяснили, где - мы, где - они.
Я заметил, что он употребил прошедшее время, снова взглянул на рисунок, и меня опять поразила его сухая одноцветность и ощущение жары.
– Знаешь что, - сказал я, - прячь его, когда уходишь. Маме он не очень понравится.