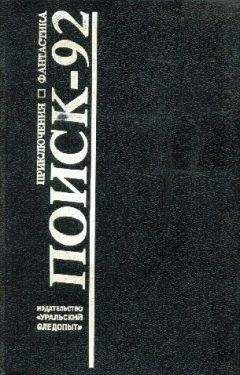Бабка Анна ворожбой больше не занималась, присмирела, только плакала, отвернувшись в угол. Люба же, оправившись от шока, металась по квартире, не садясь да и почти не останавливаясь. Игорь молча съел пластик вкрутую приготовленной ею яичницы — два осколка скорлупы посередине сковородки, зажаренный до черноты бок — и встал.
— Всего шесть часов, — сказала Люба, глядя за окно, где полыхал алый прямоугольник солнца на стене соседнего дома.
— Так что же, в квартире сидеть? — ответил он. — Я не могу.
— Я пойду с тобой, — сказала она.
Они дважды обошли кварталы возле универмага, обследовали каждый уголок, не признаваясь самим себе, что еще надеются найти сына, оставленного, брошенного кем-то. Потом мотались по вокзалам и автостанциям, уже без надежды — убить время. Вечером, когда они, отчаявшиеся, обессиленные, брели от метро домой, Люба вдруг решила завернуть в универмаг — то ли желая оттянуть возвращение в пустоту квартиры, то ли в последней попытке отыскать хотя бы какой-то знак, какую-то метку.
Игорь с ней не пошел, отправился домой. Посреди тротуара стояла вислозадая собака, глядя, как на желтые подмигивания светофора бредет отечная старуха в домашних тапочках. Игорю казалось иногда, что город населен лишь стариками и старухами. Величественно-непробиваемые бегемоты, жалкие червяки, угрюмые тонконогие журавли, тряпичные куклы, растрескавшиеся от долголетия кипарисы оккупировали улицы, парламент, церкви, службы управления, загнав молодых в резервации стройплощадок, цехов и контор. О чем они думали, пережевывая настоящее и напрасно стараясь забыть о прошлом? Странно ли, что для них существовало лишь благородство любви и не было ее подлостей? Что унижения человеческого рода преобразились в героизм, а честь умереть стала казаться позором казни? Они жили уже третью, четвертую из своих жизней, и было непонятно, почему молодые терпят их власть. Город, кажется, слишком полюбил старость и сопутствующие ей физические страдания при отсутствии страданий душевных.
Он уже поворачивал к дому, когда его окликнули. Он обернулся. Люба бежала к нему, дыша раскрытым ртом и отмахивая шаги сжатыми кулачками. Он кинулся навстречу. Вдруг зазвенела неожиданная мысль: останется ли он с ней, если… если, не дай бог, не будет Димы? Возможна ли после этого совместная жизнь? Вряд ли она любит его, вряд ли он ее любит. Вряд ли то, что случилось, сблизило их.
Да зачем он об этом! Что он заранее хоронит!
— Там какая-то женщина… — сказала Люба, кое-как дыша. — Говорит, что знает, где Дима…
Они побежали к универмагу.
— Я иду, она мне сзади кричит: «Подождите!» — рассказывала Люба прыгающим голосом. — Оборачиваюсь, смотрю: какая-то маленькая, растрепанная, кофта расстегнута и без одной пуговицы. Подхожу, она в лине вот так переменилась и, смотрю, падает. Я ее подхватила, не знаю, что делать. Потом вижу, глаза открывает. Я ей помогла — к скамейке. Она мне говорит: «У вас сын пропал? Хоть убейте, хоть что делайте, это я украла. У него ваше лицо».
Пять минут спустя Игорь бежал уже к телефону-автомату.
Трубка щелкнула, подышала ему в ухо километровыми электрическими шуршаниями.
— Капитан Усов.
— Его убить хотят, — закричал Игорь. — Через час, через полтора.
В трубке напряглась, выгнулась куполком тишина.
— Подождите, — сказал капитан. — По порядку: кого, кто, где?
Игорь, пытаясь справиться с собой, стал рассказывать то, о чем, казалось ему, должен знать уже весь город: что украден, что ищут вторые сутки, что сведения о нем в полиции.
— Так значит, теперь его несут убивать? — спросил капитан, и в голосе его не слышалось даже любопытства.
Игорь молчал, не зная, что отвечать и можно ли тут что-то ответить.
— Но если это действительно так, — наконец сказал он, понимая, что после этой фразы там, на том конце провода, его уже вообще не будут принимать всерьез.
Трубка опять опустела на целую вечность.
— Понимаешь, парень, знаю я о твоем деле, — вдруг заговорил капитан. — Но никого нет, ни одного наряда, ни одной машины. Я один. Две групповых стычки, на северо-востоке и в районе Песчанки, — он помолчал. — Уже трое убитых, с десяток раненых.
— До нас, значит, дела никому нет?! — крикнул Игорь.
Капитан молчал.
— Ну погибнет же он, меньше двух часов осталось! — ’Ухо, прижатое к трубке, вдруг заледенело.
— Понимаешь… — сказал капитан.
Игорь бросил трубку и выскочил из кабины. К черту, к черту! Чего он никогда не мог понять — как этот город еще существует, не вымер, не превратился в руины, не рассеялся в прах. В прошлом месяце южную окраину оккупировала армия крыс с городской свалки. Полтора часа по шоссе Первопроходцев текла серая омерзительная река, заперев население в квартирах, подъездах, в метро, в наземном транспорте, и некому было унять ее. Троллейбус, в котором сидел Игорь, встал посреди улицы — водитель не решался давить эту угрюмую кашу. Одна из тварей через щель в дверях пролезла в салон, ее долго не могли поймать, наконец кто-то, изловчась, расплющил ей голову, кровь обрызгала сиденье.
Он посмотрел на часы: две минуты одиннадцатого. Значит, они уже вышли, если верить этой в кофте. Он кинулся в гараж.
Выворачивая на шоссе, ведущее к Клиновой, он подумал, что в одиночку дело пропащее, безумная затея. Но друзей у него никогда не было. Искать же просто знакомых… Он всадил передачу, скрежетнули шины, автомобиль, вжимая его в сиденье, полетел, и он почувствовал в себе спокойную ярость, остервенение спешной, но привычной работы.
Даль все больше тускнела, переходя из лиловой в фиолетовую, встречные жлобы обжигали ближним светом. Он опять взглянул на часы: двадцать одиннадцатого. «Они будут на месте не позже половины двенадцатого», — сказала она. Двигатель визжал, на неровностях — чертовы дороги! — машина прыгала, казалось, на полметра.
В Пристанище, вымахивая на пригорок, он краем глаза вдруг выхватил тень, метнувшуюся сбоку. Удар о бампер, еще удар, уже о правую дверцу — оба тяжелые, громоздкие и глухие, мясные. Он посмотрел в зеркало: перевертываясь вверх лапами, крутясь, падала на асфальт огромная черно-белая, кажется, породистая псина. Как она сюда попала в этот час?
Недвижная туша собаки, напоследок еще раз мелькнувшая в зеркале, вдруг вызвала в нем приступ отвращения и ненависти. С его сыном, с его мальчиком они хотят поступить, как с животным. Ну, сволочи, они дорого заплатят.
Он запомнил описание человека, у которого сейчас сын, до самых пустых и неясных подробностей: высок (что значит высок — выше других, тех, кто рядом с ним?), нос прямой, сильный (вот уж примета), над левым глазом большая родинка (ночью-то). Он не спрашивал себя, зачем все это нужно, если тот человек будет держать в руках запеленутого младенца. Но ему хотелось знать, как он выглядит. Сознание, что у неготам есть союзник, поддерживало слабенький комочек надежды.