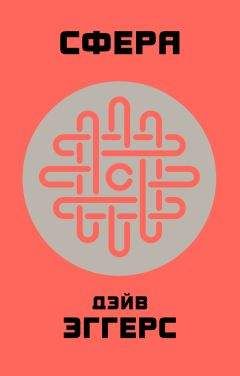- За что? - быком вскинулся прокуратор.
- Да не за что, а почему! - сухо отрезал книжник. - Ты здраво прикинь, что получится, если мы его не распнем! Ты же не зятек мой, тебе ведь растолковывать не надо, это для него я целую сказку придумал, как первосвященники из-за проповедей нашего первого секретаря насиженных мест и прежнего дохода лишатся. А дело-то куда серьезнее! Ты что, друг ситный, хочешь человечество христианства лишить?
Прокуратор снова вытер пот. Что-то похожее на тонкую мысль мелькнуло в ясных глазах прокуратора, и он весь обратился во внимание.
Глава тринадцатая,
в которой арестованного пытаются всячески подбодрить
Думаете, сладко сидеть в камере?
Ошибаетесь, люди добрые. Если считаете, что со спокойной душой отсидите десяток суток в камере смертников, вы глубоко ошибаетесь. Не верите? Ваше дело. Но проверить все это очень несложно. Достаточно запереть за собой окованную железом дверь, сесть на тюремную шконку, печально осмотреть парашу и сказать себе: "Здесь я буду жить долгие тридцать лет. Дайте цветной телевизор или, на худой конец, собеседника!"
А не дадут.
Вот тогда-то и повернется к тебе черное лицо тюремного досуга. Но у нас ведь еще все достаточно цивилизованно, адвокаты приходят, порой прокуроры в камеры заходят, здоровьем подследственных интересуются. Свидания с родственниками дают. А что говорить о римских, а тем более иудейских тюрьмах, да еще на заре цивилизации? Грязь, вонь и крысы шныряют. Об адвокатах только мечтать приходится, а вот прокуроров да прокураторов, как всегда, на всех хватает.
Камера, в которую посадили Иксуса Креста, была обычной для того времени маленькая вонючая каморка. Рядом имелось еще несколько таких же тесных каморок. У дверей одной из них толпились женщины. В этой камере сидел Варрава, и каждой женщине хотелось хоть глазком взглянуть на сексуального маньяка. Купцы да ремесленники так были увлечены своей работой, что на своих законных половинок ночное внимание обращали лишь изредка. Разумеется, женщин это не устраивало. Поэтому охотниц посмотреть на легендарного разбойника, который ради женщин жертвовал интересами своей основной работы, не убывало.
В камеру, где сидел Иксус Крест, лишь изредка заглядывали из любопытства.
- Это все Ванька Волкодрало, - стонал Иксус в своем узилище. - Ну, Иван Акимыч! Это он мне простить не может, что я его одно время в Егланский район не отпустил! Вот и мстит, сволочь!
Сев в углу, он бессильно прижал к груди охапку соломы. Да за что на крест?! Ну, жил, ну, проповедовал светлые истины! Жить ведь надо было! А что он умел? Средняя школа, первым секретарем ВЛКСМ потрудился немного, потом с возрастом в райком выдвинули. Сначала, конечно, в инструкторах походил, потом идеологией рулить доверили. Что он знал, кроме диалектического материализма? Нет, ну Ванька, сволочь первостатейная! Подсидел-таки! И где? Где подсидел-то? Ну нельзя же так. Совесть надо иметь. Ведь в одинаковом же положении, вроде как в тылу у рабовладельцев... Тут, понимаешь, партизанский отряд создавать надо, за справедливость биться, а этот подлец Волкодрало вроде как в полицаи записался! В таких вот бедах человек проверяется, а не на берегу Бузулуцка в День советской торговли!
Скрипнула решетка. На пол камеры легла большая угловатая тень. Иксус испуганно забился в угол, но, вглядевшись, с облегчением вздохнул. Слава богу, это был прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Да какой, к черту, Понтий! Родной человек это был. Во всей Иудее роднее его сейчас не нашлось бы. Потому как стоял на пороге хмурый и озабоченный Федор Борисович Дыряев, бывший милицейский начальник Бузулуцкого района, волею случая облеченный властью и здесь. Бритая голова его потно поблескивала.
- Феденька! - Митрофан Николаевич Пригода подбежал к Дыряеву, как к спасителю своему. И плевать ему было, что вошел этот спаситель в роскошном гимасии с орнаментом по подолу и не менее роскошном плаще. - Молить за тебя стану! Не погуби, Борисыч! Наветы все! Происки Волкодрало! Он, он, сволочь, народ против меня восстановил! Он местных подуськивает!
Понтий Пилат с видимой брезгливостью отстранился. Боялся, что затравленный и насмерть перепуганный узник измажет грязными руками его белоснежный гимасии.
- Ты, Митрофан Николаевич, успокойся, - сказал он, встав посреди узилища и с заметной опаской поглядывая на дверь. - Сделаю все, что могу. Но и ты меня должен понять, мне здесь тоже несладко. Настучат на меня Вителию, и прости-прощай Малая Азия, пошлют в Намибию когортой командовать. Чем я тогда тебе помогу?
- Что же делать, Феденька? - всплеснул руками Иксус.
- Раньше надо было думать! - мрачно сказал Пилат, раскачиваясь с пятки на носок и заложив руки за спину. - Ишь... Царь Иудейский! Нельзя же так! Думать надо было! Не в пустыне отшельником жил, люди же кругом были! Гордыня тебя обуяла, Митрофан Николаевич!
Душно стало в узилище.
Иксус печально поник головой, потом торопливо встал с колен и приблизился к прокуратору.
- Врут, Феденька! - лихорадочно зашептал он, срываясь на крик. - Не было этого... Никогда я себя царем не называл! Ты же знаешь, я старый партиец, с семьдесят первого в партии... Мне ли поддерживать идею самодержавия! Сам знаешь, мы с тобой понятия демократического централизма с молоком матери всосали!
Он схватился за пухлую руку прокуратора, пальцы которой были унизаны драгоценными перстнями.
- Веришь?
Прокуратор шумно и недовольно вздохнул. Суетливость товарища заметно раздражала прокуратора. Да и само товарищество, надо прямо сказать, тяготило.
- А свидетелей куда девать? - хмуро спросил он. - И этот... Иуда, он, брат, тебя по полной программе закладывает! Чешет, как по Евангелию!
- Феденька, выручай! - задрожал нижней челюстью бывший первый секретарь, а ныне самозванец. - Не дай пропасть за чужую зависть! Сволочь он, сволочь, он из общей кассы лепты воровал, ночью на дорогах путников грабил, а я его, подлеца, жалел все, не знал, чем мне эта жалость обернется!
Пилат махнул рукой.
- Сказал же, что чем могу, помогу! - Он обвел глазами камеру и нерешительно добавил: - Но ты особо не надейся, Митрофан. Сам знаешь, надейся на худшее, чтобы лучшее было как подарок.
Пригода отшатнулся. Взгляд его с душевной болью устремился на прокуратора. Затравленным зверьком смотрел на прокуратора старый партийный товарищ.
- На крест пошлешь? - дрогнувшим голосом спросил он. - Товарища по партии, друга, можно сказать, со спокойной душою на крест отправишь? И сердцем не дрогнешь? Не дрогнешь, Феденька? И жилка никакая не забьется?
Прокуратор тяжело вздохнул:
- Эх, Митрофан! Да ты пойми, человек всегда раб обстоятельств. Не я тебя на крест отправляю, обстоятельства толкают! Я же тоже только человек! Согрешил малость, схимичил с Софонием, списали баллисту новую, а эти, из Синедриона, пронюхали... Шантажируют теперь, гады! - Он с яростью взглянул на зарешеченное окно. - Боком им, сукам, этот шантаж обойдется! А ты, Митя, главное, не теряйся, честь партийную блюди. Ты ведь, Митрофан Николаевич, гордость должен испытывать? Ведь не каждый день, понимаешь, человек за свои убеждения на крест идет! Уж если выпадет, ты, Николаевич, гордо держись! Ты Александра Ульянова вспоминай, народовольцев, понимаешь, помни! Кибальчича, там, Желябова, Веру Засулич! Ты ведь, Митя, первый, с тебя коммунизм начинается! Кодекс Строителя помнишь?