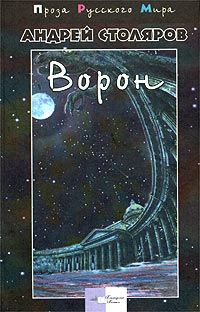— вдруг вплотную приблизилось… Нет, это все опять было не так. Горело несколько фонарей, и листва вокруг них была ярко-синяя. — Задыхаемся… — шумели в Саду широколиственные тополя. Что-то грузное издыхающее ворочалось и бормотало в Канале. Почему-то отчетливо пахло свежевыкопанной землей. Комковатые глинистые отвалы загромождали всю набережную. Плиты вывороченной облицовки торчали из них. Будто замок, чернело зубцами бетонное здание. Непроглядная тень от него достигала отвалов и плит. И профессор слегка передвинулся, чтобы свет попадал на бумагу. — Вы, по-моему, меня не слушаете, — сказал он. — Дело ваше, конечно, но подумайте о спасении. Я считаю, что очень немногим удастся спастись. — И он тут же опять забубнил, близоруко склонившись над текстом. — Бе семь месьсто во Граде Великом, на Коломеньской стороне… Межу троих Мостов Деревянных и как бу на острове… А и не доходяху до Коломеньской стороны… У Николы, що сы и творяша изговорение… Где садяса бо каминь о каминь, и каменныя юдоль… И сведоша до острова Каменныя же юлиця… В той же юлице вяще и живе есьм некто один… По хрещенью имяху людскую сорымю — Грегорей… Ремесло же ему око бяше — выкаливать свещ… И свия, и продаша, и от того питаяся… Но ободо заклане его на великыций сан… И все знаша и бысть во зокрытом молчании… И бысть сан тот от мира — Земляной Человек… Бо он ходит внотре всей землы, яко звашося — Угорь… Угорь Дикой — рекоша сы имя ее… Тако ходе Земляной Человек внотре Угоря… И смотряху, разведша, и понияху на сы… Паго знае он, где оживающе сердце Угоря… И спосташа туда, зарекоцей, и глажа его… А спосташа туда изсы острову Каменный юлицы… Какове буден дат некий омен и зроклый ситчас… И поглажа рукою со многие пятна на сердцы… Начат битися и трепетать все тело яво… На мал час ропоташи и спинам потещи из ноздры… И потещи из ноздры охлябиця, сукров и жижь… И умре того часе — без гласа и воздыхания… — Профессор запнулся и, прислушавшись непонятно к чему, вдруг, как циркуль, сложил свою плоскую долговязую нечеловеческую фигуру. Тотчас что-то быстро вжикнуло сбоку и царапнуло, выбив искры, по гранитной плите. Искры тут же погасли. Хлестнула каменная крошка. Короткий тупой удар расплескался у самых моих ног. Вероятно, пуля, срикошетив, воткнулась в землю. До меня вдруг дошло, что на другой стороне Канала раздается стрельба и рычание тяжелых нагретых моторов. Вероятно, там началась так называемая «дезинфекция». А на этой, то есть, на нашей стороне я заметил метнувшуюся откуда-то длиннорукую горбатую тень, которая почти на четвереньках перебежала освещенное Луною пространство и нырнула за плиты, в спасительный резкий мрак. На секунду мне показалось, что оттуда блеснули глаза. — Вы меня опять не слушаете, — с отчаянием сказал профессор. Обрываясь, расстегнул лежащий на коленях потертый портфель и убрал туда плотные, почти пергаментные страницы. Было в них что-то неуловимо знакомое. — Откуда это у вас? — поинтересовался я. Потому что потертый портфель явно принадлежал полковнику: тот же цвет, то же тиснение квадратиками и те же никелированные замки. Правда, самого полковника не было. — Не имеет значения, — нервно сказал профессор. Он чуть вздрогнул и оглянулся назад, где перебегали точно такие же длиннорукие горбатые тени. В лунном свете обрисовался ассирийский клинышек бороды. — Нам, по-видимому, надо уходить отсюда. Это, к вашему сведению, богодухновенный текст. Я обязан сохранить его в целости и сохранности… — Он умолк. Я вдруг понял, почему так пахнет свежеотрытой землей: небольшое, но очень глубокое отверстие чернело меж плитами, вероятно, отсюда начинался подземный ход. — Я надеюсь, вы тоже идете? — примериваясь, спросил профессор. — Нет, — ответил я, мелко помотав головой. — Нет, меня эти игры не привлекают… — Как хотите, — сказал профессор, застегивая портфель. — Дело ваше, я, разумеется, не настаиваю… — Взяв подмышку портфель, он, покряхтывая, сполз с плиты и просунул босые ступни в земляное отверстие. С края тут же поехал-посыпался ломкий грунт. В это время что-то щелкнуло на другой стороне Канала, где-то слева неподалеку от нас послышался мокрый шлепок, расползлась по камням студенистая лужица пламени, синеватые язычки ее облепили плиту, на которой, мгновенно поджавшись, застыл профессор. Это был, по всей видимости, напалм. Я не знаю. Я даже не успел испугаться. Потому что низкорослое, обросшее шерстью, горбатое существо, более похожее на обезьяну, чем на человека, дико всхлипнув, неожиданно вывалилось из-за плиты, и, припав, как собака, к земле, извиваясь на брюхе, заюлило, покачивая фиолетовый зад — тихо взвизгивая, глядя в упор на профессора. Тот уже наполовину просунулся в подземный ход, но — повис на локтях, и клинышек бороды оттопырился. — Ах, ты боже мой… — растерянно сказал он. И вдруг нежно и ласково погладил это существо по затылку… И опять все это было не так. Горело несколько фонарей, и листва вокруг них была ярко-синяя. — Задыхаемся!.. — кричали раскидистые деревья в саду. Солдаты наступали с двух сторон. Часть их попыталась переправиться через Канал и завязла, по-видимому, наткнувшись на Чуню. Оттуда доносились плеск и беспорядочная стрельба. Зато другая часть вполне благополучно сконцентрировалась за мостом и, развернувшись цепью, начала охватывать прилегающую к нему территорию. Троглодиты, очутившиеся в окружении, заверещали, в наступающих полетел град палок и камней, но палеолитическое оружие, естественно, оказалось беспомощным, автоматы спокойно прошили беснующуюся толпу, и за две-три секунды все было кончено. С новой силой почему-то засияла на небе Луна. Я увидел, что спасшиеся троглодиты перебираются в глубь сада. Пахло дымом, и гнилью, и свежевыкопанной землей. Безнадежно светила лужица прогорающего напалма. Я присутствовал здесь как бы со стороны. Не глазами, а каким-то внутренним зрением — видя сад в ореоле пяти или шести фонарей. Листва вокруг них действительно была ярко-синяя. Раскидистые деревья двигались, точно живые. В правом углу его происходила какая-то возня. Часть солдат уже выбралась из Канала и теперь бежала, приближаясь ко мне. Фигуры их выглядели сверху игрушечными. С левой же стороны продолжала наступление четкая военная цепь и, по-видимому, на дулах автоматов вспыхивали крохотные огоньки. Эта цепь тоже неотвратимо приближалась. И еще я видел самого себя: как я лежу на глинистой комковатой куче, совершенно распластанный, раскинув руки и ноги. Сразу чувствовалось, что в этом человеке совсем нет сил. Впрочем, это было не главное. Я отчетливо понимал, что — это не главное. Главное заключалось в том, что я перестал быть самим собой. Я как будто превратился в умирающий старый город. Распахнулись вдруг улицы, открылось пространство площадей, зашипел жаркий ветер, сквозя по безжизненным переулкам. Все мое тело пронзила хрустящая каменная боль. Точно сделано оно было из кирпича и гранита. Из гранита, асфальта, булыжника, глины, песка. Загудела напором вода, текущая по артериям. И провисли, как нервы, оборванные электрические провода. Каждой клеткой я чувствовал, что в них уже нет электричества. И что кости домов — в сетке трещин — искривлены. И что некоторые из них, проседая, бессильно разваливаются, образуя пустоты — старческой пыли лакун. Словно язвы, саднили места четырех Карантинов. Я не знал до сих пор, что Карантины, оказывается, сожжены. Гарь и пепел на их территориях были еще горячими. И немели бесчувствием ржавые пятна болот. Здесь, по-видимому, уже начиналось последнее омертвение. Беспощадно шуршала затягивающая их трава. Плоть земли была душная, твердая и холодная, — не дающая больше ни жизни, ни родственного тепла. Еле-еле мерцало в ней старое ветхое сердце, под которым, как смерть, отдавалась привычная глухота. Я едва ощущал в себе редкие и тупые удары. А, быть может, лишь помнил, а вовсе не ощущал. Может быть, у меня больше не было ни жизни, ни сердца. Куча вырытой глины почему-то поехала вбок. И земля подо мной начала постепенно проваливаться… Нет, нет, нет, все это было абсолютно не так. Не было Сада, и не было фонарей, окруженных сиреневым ореолом, не было плещущего Канала, и не было ломкой цепочки солдат. Влажный непроницаемый мрак обнимал меня. Повсюду была земля. Материнской толщей простиралась она до края мира: созревали в ней хрустальные воды, истончались изящные ракушки, которым были миллиарды лет, гулким эхом отдавались упрятанные в глубине пещеры. Я, по-видимому, находился в одной из таких пещер. Ощущалось движение воздуха, какие-то руки осторожно гладили меня. Несколько голосов повторяли нараспев, как молитву: О, великий и беспредельный в своем могуществе Дух Земли… О, тот, который живет вечно и сам есть вечность… Кому послушны и твари, и рыбы, и гады холодные, и насекомые… И трава, возрастающая из могил, и загадочные цветные минералы… О, тот, от кого протянулись нити наших судеб… Чье дыхание согревает и оживляет нас… Встань над нами и покажи миру древнее свое лицо… Ибо лицо твое есть — любовь и страх… — По-моему, это пел небольшой хор. Чрезвычайно разноголосый, фальшивящий, неумелый. Или, может быть, это пели мятущиеся деревья в Саду? Определить было трудно. Низкие своды пещеры немного резонировали, кое-где из земляной коросты высовывались желтоватые завитушки корней, частоколом теснились подпорки, удерживающие кровлю, а в расширенном и заглубленном конце ее поднималось уступами какое-то громоздкое сооружение — в самом центре которого сиял надраенный медный лист. Вероятно, это было нечто вроде языческого алтаря. Его окружали грязноватые полуголые люди, видимо, уже долгое время не стригшие ногтей и волос, вместо одежды на них висели ленты из древесной коры, лица, не знающие дневного света, пугали прозрачностью. Я все это очень хорошо видел. Ни единого проблеска не было в пещере, но я все это очень хорошо видел. До подробностей, до мельчайших деталей. Наверное, помогало то самое «внутреннее зрение», которым я видел город. Между прочим, город я сейчас видел тоже. И без всяких затруднений мог бы указать место, где я нахожусь. Прямо под Садом, метрах в пятидесяти от моста. Я даже видел карикатурные мелкие фигурки солдат, постепенно затягивающих уже не нужное оцепление. Впрочем, я все это не видел, а скорее угадывал. Масштабы были смещены. Меня не отпускала каменная хрустящая боль. Люди в одежде из древесной коры подняли руки. — Встань и покажи миру свое лицо…