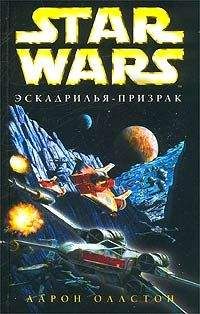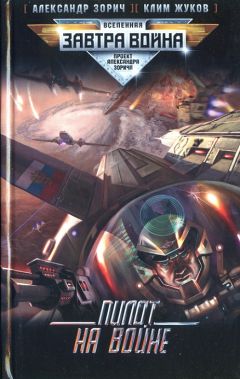Вот и все, что глаз успел ухватить при свете испепеляющих силумитовых вспышек. Цепочки аварийных габаритов погасли. Останки авианосца, покрытые космическим камуфляжем, погрузились в небытие, полностью слившись с чернотой глухого космоса.
И только фравахар — золоченый крылатый диск, символ Ахура-Мазды, — сорванный с носовой оконечности волной деформаций, плыл в пустоте степенно и величаво. Крохотная золотая пылинка, символ Солнца, бесценная находка для ксеноархеологов неродившихся еще цивилизаций, которые придут в Галактику через миллиард лет после этой войны…
Покончив с «Виштаспой», командир отдал приказ:
— По местам стоять! Боевой разворот влево сто! Самый полный!
Офицеры немедленно схватились за никелированные ручки, выпиравшие на центральном посту из всех стоек. А что я — не офицер? Или дурак? Я тоже схватился.
Очень вовремя: неодолимая сила оторвала мои ноги от пола, потащила назад.
Правая переборка по всем признакам вознамерилась стать полом. Поверьте: лучше, куда лучше невесомость, чем поворот результирующего вектора сил градусов этак на шестьдесят. Ну да ничего не попишешь: боевой разворот — крутая штука.
Остальным приходилось не легче.
Кто-то крикнул:
— Эх, с ветерком катаешь, Минглиев!
На пол полетели неосмотрительно оставленные стаканы чая. Штурмана окатило от пупа до пяток.
— Енот твою мать, Беликов, у тебя что, державки нет?!
— Потише, мой-то стакан вот он. А твой? Твой где, сын звезды?
Офицеры заржали. Вообще они там, на «Ксенофонте», по этой части были легки на подъем. Чуть что — сразу «га-га-га».
Валентин Олегович не спешил окоротить балагуров. Все мгновенно унялись сами, при первых звуках его голоса.
— Торпедный, доклад по второй цели!
— Входит в створ через восемь секунд!
— Шахты двенадцать — шестнадцать, товсь!
— Есть товсь!
— Отсчет!
— Шесть… четыре… два… один…
— Седьмая — шестнадцатая… пуск!
Второй жертвой стал «Хварэна», принимавший в это время флуггерное топливо и боеприпасы с транспорта снабжения. Если «Виштаспу» наш крейсер расстрелял по сути в упор, то «Хварэну» пришлось бить с большей дистанции и с невыгодного ракурса.
Зато и выпустили мы целых десять торпед в одном залпе.
За обоих — «Хварэну» и транспорт — я был совершенно спокоен. Не уйдут!
Крейсер вернулся в граничный слой Х-матрицы, оставив с носом клонские фрегаты.
Меня сильно тошнило, но я героически терпел.
В центральном отсеке раскупорили дюжину бутылок «Абрау-Дюрсо» и выпили за скорейшее прибытие экипажа «Хварэны» в ведомство Вельзевула.
Когда «Ксенофонт» явился на рандеву со своими собратьями, мне велели убираться из центрального отсека и идти отдыхать.
— Я не хочу отдыхать, товарищ контр-адмирал! Ведь «Ксенофонт» — авианесущий крейсер! А я — пилот! Я желаю принять участие в следующей фазе операции! Вместе с «Орланами»!
— А я не желаю об этом даже слышать! — грозно сдвинув брови, ответил Доллежаль. — Кого мы награждать будем, если с вами вдруг что?
— Меркулова! — выпалил я.
— Еще одно слово, лейтенант, — Доллежаль неожиданно не на шутку разозлился, — и действительно до награждения доживет только Меркулов!
Филипп из-за спины контр-адмирала знаками показал, чтобы я не перечил.
Я и не думал.
А подумал я о том, какая же лейтенант Пушкин, в сущности, свинья. Сдал Меркулова мясникам в белых халатах — и сразу же о чем позабыл, как и не было его вовсе.
Но нет, я не из тех, кто друзей под капельницей бросает! Я тихонечко увел полбутылки «Абрау-Дюрсо» и, не прощаясь, пошел из центрального отсека в корму.
В следующей выгородке сидели пилоты-навигаторы: катающий с ветерком Минглиев и его дублер, Зальцбрудер.
Меня они не заметили, и я бы спокойно пошел себе дальше, если бы не сигнал «Внимание!» внутрикорабельной трансляции. Словно тяжелый газ, командирский голос спускался из-под подволока и растекался по отсекам, проникал во все закоулки, во все, как говорили на «Ксенофонте», шхеры. Я замер.
— Слушать в отсеках!.. Только что принята шифровка от флагмана. Зачитываю.
«Всему личному составу Главного Ударного Флота.
Связь с адмиралом Пантелеевым восстановлена. Анализ результатов нашей атаки и шифрограмма от главкома свидетельствуют, что противнику нанесено сокрушительное поражение.
Девять ударных авианосцев противника уничтожены в космосе. Еще два авианосца в результате полученных повреждений сошли с орбиты, обгорели в атмосфере и взорвались. Также уничтожено до пятнадцати других вымпелов противника, в том числе линкор и семь фрегатов. Флот Конкордии полностью дезорганизован. Часть боеспособных кораблей беспорядочно отступила через Х-матрицу.
В Городе Полковников десантные части врага продолжают оказывать сопротивление, сражаясь с упорством обреченных. Но теперь, когда вместе с авианосцами погибли сотни флуггеров, а оставшиеся машины лишились базирования, нами возвращено господство в воздухе и околопланетном пространстве.
Победа наша близка, полный разгром врага неизбежен.
Подпись: адмирал Н.Т. Иноземцев».
Март, 2622 г.
Лавовый полуостров
Планета Фелиция, система Львиного Зева
Подходил к концу второй месяц вынужденных каникул инженера Роланда Эстерсона и Полины Пушкиной на Лавовом полуострове.
Подходила к концу и солнечная зима. Эстерсон с затаенной надеждой ожидал: вот сейчас, вместе с весенним теплом, придут перемены и начнется новая жизнь. Более похожая на человеческую, чем та, которую они вели.
Однако шли дни — одинаковые, серо-зеленые, зябкие. Проползали ночи — ветреные, черные, как сажа. И ничего не менялось.
Даже температура воздуха.
Плюс двенадцать днем.
Плюс девять ночью.
Ни один пилот больше не садился на лавовое плато. Ни одного сражения не наблюдали Полина и Эстерсон в небесах над заливом Бабушкин Башмак. И если бы не вертолеты, чей далекий стрекот изредка означивал присутствие Великой Конкордии на планете Фелиция, можно было бы подумать, что война закончилась…
Нет, Эстерсон не жаловался на судьбу. В конце концов, с ним была Полина, чье общество никогда ему не докучало и от одного присутствия которой на душе у него становилось теплее. С другой стороны, именно из-за Полины вязкое болото малоустроенных лесных будней, в котором они сообща погрязли, так сильно угнетало инженера. «Она не заслуживает такой скотской жизни!» — твердил Эстерсон, отправляясь на очередную вылазку за съестным.
— Ну вот, а ты говорил, что война продлится недолго… — вздыхала Полина.
— Бойся Бога! Два месяца — это время маленький!
— Не бойся, а «побойся». Это раз. И, кстати, чтобы все на свете осточертело, двух месяцев вполне достаточно. Это два.
— Пессимизм — нельзя. Пессимизм — вонять! — парировал Эстерсон.
— И чем же он вонять? — изо всех сил сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, спрашивала Полина.
— Вонять козлиный дерьмо!
Да-да, как и опасался Эстерсон, у электронного переводчика «Сигурд», стараниями которого он коммуницировал с Полиной с первого дня их знакомства, сдохли батарейки. Пришлось Эстерсону учить русский. В свою очередь, снизойти к шведскому Полина отказалась наотрез, сославшись на роковое отсутствие способностей к языкам, а на самом деле — из лени.
К середине марта Эстерсон изрядно продвинулся в этом трудном деле. Хотя и не настолько, чтобы читать в оригинале Набокова или Фета. Впрочем, на то, чтобы в шутку препираться с Полиной, его словарного запаса вполне хватало.
Уроки русского сильно скрашивали жизнь обоим. Полина поминутно взрывалась хохотом, умиляясь каждому выверту в артикуляции инженера. А Эстерсон получал невероятное удовольствие, прислушиваясь к скрипу своих заржавленных мозгов, просчитывающих головоломные спряжения русских глаголов.
Трагикомизм положения состоял еще и в том, что уроки русского осуществлялись через немецкий, который был единственным общим языком для Эстерсона и Полины. Оба знали немецкий посредственно, у обоих он ассоциировался со средней школой, а значит — с зевотой и розгами.
Но выхода не было. Ведь если русское слово «дерево» можно было объяснить ученику и не зная немецкого эквивалента, просто указав на ближайшую пурику, то вот с абстрактными понятиями вроде «красота» или «благочестие» было сложнее…
Лишь одно в уроках русского печалило Эстерсона. А именно то, что ими нельзя заполнить весь день.
Уже на третий час инженер начинал засекаться, путать слова и, как выражалась Полина, «тупить». А Полина, надорвав от смеха живот, чувствовала усталость и отправлялась «полежать». В такие минуты Эстерсон старался не думать о том, как сильно Полина ослабела, исхудала и осунулась.