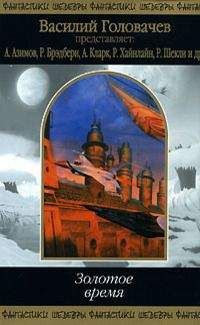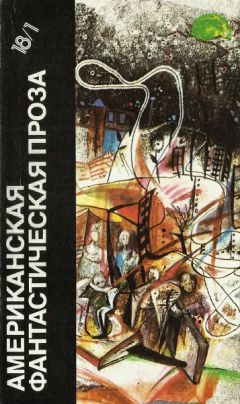— Смотря, какую эпоху вы имеете в виду… — начал я, но она не обратила внимания на мои слова.
— Я представляла себе огромные флотилии смешных маленьких самолетиков, которые так храбро воевали. Я восхищалась ими, как Давидом, вступающим в поединок с Голиафом. И большие, неповоротливые корабли, которые плыли так медленно, но все же приплывали к своей цели, и никого не беспокоило, что они так медлительны. И странные черно-белые фильмы; и лошадей на улицах; и старомодные двигатели внутреннего сгорания; и камины, которые топят углем; и поезда, идущие по рельсам; и телефоны с проводами; и великое множество разных других вещей! И все, что можно было сделать! Подумайте только, сходить в настоящий театр на премьеру новой пьесы Шоу или Ноэля Кауорда! Или получить только что вышедший из печати новый томик Т. С. Элиота! Или посмотреть, как королева отправляется на открытие парламента! Чудесное, замечательное время!
— Приятно слышать, что кто-то так думает. Мой собственный взгляд на эту эпоху не совсем…
— Но это вполне естественно. Вы видите ее вблизи, у вас отсутствует перспектива. Вам бы пожить хоть немного в нашу эпоху, тогда вы знали бы, что такое монотонность и серость, и однообразие — и какая во всем этом смертельная скука!
Я немного испугался.
— Кажется, я не совсем… э-э… Как вы сказали, пожить в вашу… что?
— Ну, в нашем веке. В двадцать втором. О, конечно, вы ведь не знаете. Как глупо с моей стороны.
Я сосредоточился на повторном разливании чая.
— О Боже! Я знала, что это будет трудно, — заметила она. — Ведь трудно, как вы считаете?
Я сказал, что, по-моему, трудно. Она решительно продолжала:
— Ну, понимаете, оттого я и занялась историей. Я имею в виду, мне нетрудно было представить себя в эту эпоху. А потом, получив в день рождения ваше письмо, я уже само собой решила взять темой дипломной работы именно середину двадцатого века, и, конечно, в дальнейшем это стало предметом моего научного исследования.
— Э… э, и все это результат моего письма?
— Но ведь это был единственный способ, не так ли? То есть, я хочу сказать, как иначе могла бы я подойти близко к исторической машине? Для этого надо было попасть в историческую лабораторию. Впрочем, сомневаюсь, что даже при таком условии мне удалось бы воспользоваться машиной, не будь это лаборатория дяди Доналда.
— Историческая машина, — уцепился я за соломинку в этой неразберихе. — Что такое историческая машина?
Она поглядела на меня с изумлением.
— Это… ну, историческая машина. Чтобы изучать историю.
— Не слишком понятно. С тем же успехом вы могли бы сказать: чтобы делать историю.
— Нет-нет. Это запрещено. Это очень тяжкое преступление.
— В самом деле! — Я снова попробовал сначала — Насчет этого письма…
— Ну, мне пришлось упомянуть о нем, чтобы объяснить всю историю. Но, конечно, вы его еще не написали, так что все это может казаться вам несколько запутанным.
— Запутанным не то слово. Не могли бы мы зацепиться за что-нибудь конкретное? К примеру, за это письмо, которое мне якобы предстоит написать. О чем оно, собственно?
Она посмотрела на меня строго и затем отвернулась, покраснев вдруг до корней волос. Все же она заставила себя взглянуть на меня вторично. Я видел, как вспыхнули и почти сразу погасли ее глаза. Она закрыла лицо руками и разрыдалась:
— О, вы не любите меня, не любите! Лучше бы я никогда сюда не являлась! Лучше бы мне умереть!
— Она прямо-таки фыркала на меня, — сказала Тавия.
— Ну, она уже ушла, а с ней и моя репутация, — сказал я. Превосходная работница, наша миссис Тумбс, но строгих правил. Она способна отказаться от места.
— Из-за того, что я здесь? Какая чушь!
— Вероятно, у вас иные правила.
— Но куда еще мне было идти? У меня всего несколько шиллингов ваших денег, и я никого здесь не знаю.
— Едва ли миссис Тумбс об этом догадывается.
— Но мы ведь не… Я хочу сказать, ничего такого не…
— Мужчина и женщина, вдвоем, ночью — при наших правилах этого более чем достаточно. Фактически достаточно даже просто цифры два. Вспомните, животные просто ходят парами, и никого их эмоции не интересуют. Их двое и всем все ясно.
— Ну да, я помню, что тогда… то есть, теперь нет испытательного срока. У вас застывшая система, непоправимая, как в лотерее: не повезло все равно терпи!
— Мы выражаем это другими словами, но принцип, по крайней мере внешне, примерно такой.
— Довольно нелепы эти старые обычаи, как приглядеться… но очаровательны. — Глаза ее на миг задумчиво остановились на мне. — Вы… начала она.
— Вы, — напомнил я, — обещали дать мне более исчерпывающее объяснение вчерашних событий.
— Вы мне не поверили.
— Все это было слишком неожиданно, — признал я, — но с тех пор вы дали мне достаточно доказательств. Невозможно так притворяться.
Она недовольно сдвинула брови.
— Вы не слишком любезны. Я глубоко изучила середину двадцатого века. Это моя специальность.
— Да, я уже слышал, но не скажу, чтобы мне стало от этого много яснее. Все историки специализируются на какой-нибудь эпохе, из чего, однако, не следует, что они вдруг объявляются там.
Она удивленно посмотрела не меня.
— Но, конечно, они так и делают — я имею в виду дипломированных историков. А иначе как могли бы они завершить работу?
— У вас слишком много таких «конечно». Может, начнем все же сначала? Хотя бы с этого моего письма… нет, оставим письмо, — поспешно добавил я, заметив выражение ее лица. — Значит, вы работали в лаборатории вашего дядюшки с чем-то, что вы называете исторической машиной. Это что — вроде магнитофона?
— Господи, нет! Это такой стенной шкаф, откуда вы можете перенестись в разные эпохи и места.
— Вы… вы хотите сказать, что можете войти туда в две тысячи сто каком-то году, а выйти в тысяча девятьсот каком-то?
— Или в любом другом прошедшем времени, — подтвердила она. — Но, конечно, не каждый может сделать это. Надо иметь определенную квалификацию и разрешение, и все такое. Существует всего шесть машин для Англии и всего около сотни для всего мира, и допуск к ним очень ограничен. Когда машины только еще сконструировали, никто не представлял, к каким осложнениям они могут привести. Но со временем историки стали сверять результаты и обнаружили удивительные вещи. Оказалось, например, что еще до нашей эры один греческий ученый по имени Герон Александрийский демонстрировал простейшую модель паровой турбины; Архимед использовал зажигательную смесь вроде напалма при осаде Сиракуз; Леонардо да Винчи рисовал парашюты, когда неоткуда было еще прыгать с ними; Лейв Счастливый открыл Америку задолго до Колумба; Наполеон интересовался подводными лодками. Есть множество других подозрительных фактов. В общем стало ясно, что кое-кто очень легкомысленно использовал машину и вызывал хроноклазмы.