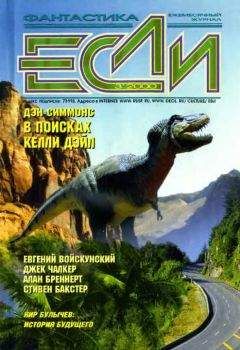Я пересек площадь и подошел к порталу гостиницы, украшенному тяжелыми фигурами тружеников серпа и молота.
— Вы куда? — остановил меня плечистый малый.
Их тут было человек семь или восемь.
— К себе в номер, — сказал я. — Я живу в гостинице.
— Документы, — потребовал малый.
Тут подъехала «Волга» с милицейской мигалкой, из нее вышел полковник Недбайлов (я его сразу узнал по несимметричной физиономии), а с заднего сиденья — упитанный молодой лысеющий блондин в хорошем темно-зеленом костюме с пестрым галстуком. За ним вылезли охранники.
— A-а, корреспондент. — Недбайлов взглянул на меня из-под низко надвинутого козырька. — Пропусти его, сержант.
Я поблагодарил полковника и пошел было к стойке портье за ключом, но тут меня окликнул молодой блондин.
— Вы из «Большой газеты»? Это очень кстати. Пойдемте с нами. Моя фамилия Сундушников. Вам это ничего не говорит?
— Видел, — вспомнил я, — видел плакат «Свободу Сундушникову».
— Ну, вот я и на свободе. — Блондин показал в улыбке непорочно розовые десны. — Хулио Иванович, — обратился он к Недбайлову, — я думаю, он нам пригодится. Со своим выходом на Москву. А?
— Может, и пригодится, шиш, — отозвался полковник. — Пошли, корреспондент.
Моим первым побуждением было отказаться. Какого черта? Но тут пришло в голову, что меня приглашают вроде бы в штаб заговорщиков. Какой уважающий себя журналист откажется от такой возможности?
И я зашагал за ними. Мы поднялись на второй этаж, прошли в глубь коридора и вступили в покои, пошловатая роскошь которых носила название «люкс». Особенно замечательны были фрески, изображающие полуголых вакханок, несущихся в безумной пляске вокруг пузатого самодовольного Вакха, или, если угодно, Диониса.
В самой большой из трех комнат этих апартаментов сидели за накрытым овальным столом люди, не менее дюжины, и среди них — маленький человечек с колючими черными точками вместо глаз, в коем я узнал Анциферова, и коренастый контр-адмирал Комаровский. Огромную фуражку он снял, и теперь гладко выбритая голова поблескивала в свете люстры.
— Это еще кто? — вперил в меня Анциферов свои точки. — Кого привели? Зачем? Нам не нужны лишние.
— Успокойся, Степан Степаныч, — благодушно сказал Сундушников нервному человечку. — Это московский журналист, он нам понадобится.
Сундушников сел рядом с Комаровским, налил в две рюмки коньяку, одну протянул мне.
— Как тебя зовут? — спросил он. — Дмитрий Сергеич? На, выпей. Надеюсь, ты не из этих гадов демократов.
— А где наш Ибаньес? — спросил я, сев за стол и оглядевшись.
— Наш Ибаньес — не наш, — ответствовал Сундушников. — Он под домашним арестом. Так вот для чего ты нам нужен, Дмитрий…
Мне не нравится амикошонство, вообще этот Сундушников со своим пестрым галстуком не нравился. Но, как я уразумел, именно он, укравший бюст Инессы Арманд и посаженный за это в тюрьму, был здесь главным закоперщиком.
— Мы начинаем новую главу в истории России, — вмешался Анциферов торжественным тенорком. — Как и сто лет назад, возмущенный народ берет власть…
— Постой, Степан Степаныч, — прервал его Сундушников. — Мы не на митинге. Дмитрий, сегодня ночью в Приморске произойдет революционная смена власти…
Прогнившей власти! — выкрикнул Анциферов. — Народ, уставший от реформ, требует полного восстановления советской власти, единственной, которая справедливо…
— Да погоди ты, секретарь, — поморщился Сундушников. — Экой ты…
— Вот насчет народа, — встрял я, — имею вопрос. Рабочие мукомольного комбината — это ведь народ, верно? Я слышал, они не хотят реставрации советской…
— С мукомолами будем бороться! — раздался отрывистый бас Комаровского. — Мы не позволим. Они ответят. За каждый выстрел в сторону революции.
— Мукомолы попали под влияние еврейской и армянской буржуазии, — визгливо пояснил Анциферов.
— А ну, замолчите! — повысил голос Сундушников. — Чего разорались? Ты, Дмитрий, человек со стороны, в наших делах не сечешь и не надо. Давай рюмку. — Он плеснул мне еще коньяку. — Дело вот в чем. Наше выступление поддержат в области, это схвачено. Но мы, конечно, думаем за всю страну. Мы тут составили обращение к народу России и поручаем тебе передать его по факсу в Москву. В твою «Большую газету». Где обращение?
— Сейчас, — засуетился Анциферов, водружая на нос очки. — Сейчас, Геннадьич, одну минутку. Тут формулировку надо уточнить.
— Давай, давай, некогда уточнять. — Сундушников вытащил из пальцев маленького человечка бумагу и протянул мне: — На, читай.
Текст обращения, набранный на компьютере, был исполнен торжественности и велеречивости. «Двадцать лет реформ были несчастьем для России… Сверхдержава отброшена на третьестепенное место… Реформаторы, узурпировавшие власть, разорили, разграбили богатейшую страну, обрекли народ на нищету, безработицу… Грабительский капитализм» — ну и подобное. Дальше обосновывалась необходимость возвращения к социализму, к «справедливому распределению общественного продукта»…
Я скользил глазами по этим воспаленным строчкам и вдруг насторожился, услыхав фразу Недбайлова:
— От пирса яхтклуба отойдет. Это, знаете, в сторонке от, порта, шиш. Лодка маленькая, полугичка, на нее и внимания не обратят.
— А если обратят? — спросил Сундушников.
— Корзины с хурмой сверху поставили. Брат с сестрой везут хурму в Гнилую слободу, что тут подозрительного, шиш? А зайдет она за волнолом, с берега и не увидят, когда она повернет к крейсеру.
— Люди надежные?
— Огарка давно знаю, он на нас работает, шиш. А она — не то сестра его, не то племянница. Москвичка. Я-то с ней не знаком, а Огарок говорит — она наша. С Братеевым живет, шиш.
Я делал вид, что читаю обращение, но, сами понимаете, весь обратился в слух. Воображение рисовало лодку, покачивающуюся у темного пирса, и Настю за веслами. «С Братеевым живет»!
Это было, как ожог. Шиш! Вот именно, здоровенный шиш сунула мне под нос Настя… моя Настенька, Настюша… Нестерпимо, понимаете, братцы? Нестерпимо это…
Голова напряженно работала. От первой мысли — дескать, ничего по факсу не передам, и вообще я не ваш — пришлось отказаться. Наоборот, наоборот! Прикинуться своим и… и…
— Смотри, Хулио Иваныч, — строго предупредил Сундушников. — Если что не так, будут у тебя проблемы со сладкой едой. Головой отвечаешь.
— Что ты, что ты, Геннадьич! — Лицо у Недбайлова перекосилось так, что смотреть стало тошно. — Все будет нормально. Мои люди выйдут сразу после пушечного выстрела, шиш.