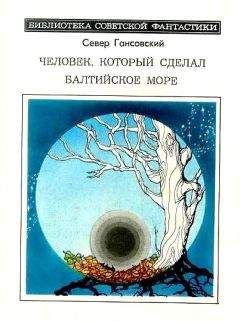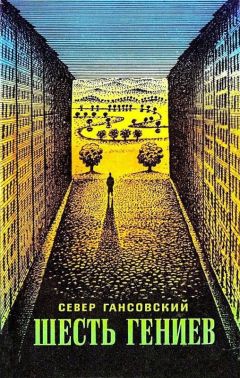Зима в долине По выдалась неожиданно суровой. Всю предшествующую ночь мело снегом. Мы мерзли. Окраина Кастельфранко, где проходила наша оборона, побелела. Но к середине дня ветер утих, тучи стали расходиться, в высокое небо взлетела стая голубей, пересеченная солнечным лучом.
Я поднялся из окопа и пустыми, покинутыми переулками, где только посвистывали пули, пошел к собору.
Я вступил в растворенные двери, стекло хрупало под ногами. И увидел в алтаре картину Джорджоне «Мадонна Кастельфранко». В большом сумрачном соборе откуда-то сверху падал свет и освещал ее.
Четыреста пятьдесят лет назад, в тысяча пятьсот четвертом, полководец Туцио Костанцо заказал молодому художнику образ мадонны для семейной капеллы. Тогдашняя венецианская традиция требовала для подобных картин изображать мадонну в виде царственной женщины, торжественной, восседающей на высоком троне над толпой святых, одетых в богатые праздничные одежды. Джордже — позднее за величие духа он был прозван Джорджоне, то есть Большой Джордже, — написал картину примерно в этой манере. Мадонна сидит на троне, у ее ног молодой рыцарь в темных латах и монах. Но латы рыцаря вовсе не роскошны, а на монахе (это, вероятно, святой Франциск) грубая простая ряса, перевязанная веревкой. Невысокая красноватая стенка огораживает трон сзади, а за ней исполненный ясной и мягкой красоты пейзаж Италии: долина, группа деревьев и озеро, окутанное голубой дымкой.
Лицо мадонны погружено в глубокую задумчивость и грусть. Молча стоят у подножия, как верные стражи, рыцарь и монах и тоже смотрят на зрителя. Композиция вещи приведена художником в состояние тончайшего равновесия — такого равновесия, которое придает всему, что там есть, жизнь, движение, душу. Мария, задумчивый рыцарь и монах, протянувший к зрителям руку, не глядят друг на друга, но все трое связаны единым чувством и как бы прислушиваются. Простые строгие ритмы высокого трона членят картину по вертикали, стремят ее вверх и как бы поют хорал, поднимающийся все выше и выше…
Я стоял и смотрел, черный, грязный, с автоматом в руке.
Удивительная чуткая тишина была в этой картине. И в этой тишине было слышно, как бьется мое собственное сердце, как бьются сердца Марии, рыцаря и монаха, и больше того — как стучит и трепещет сердце израненного мира там, за стенами собора.
От картины Джорджоне исходила просьба… призыв… веление к гармонии, миру и справедливости.
Я стоял и постепенно понимал, что должен взять эту вещь.
Но тут позади резко заскрежетала дверь, царапая железной обивкой по стеклу и камню, ворвался звук выстрелов, рев самолетного мотора, и с ними, оглядываясь, быстро, вкрадчиво в собор вошел некий Хассо Гольцленер, капитан полицейской роты, которая тогда отступала вместе с нами. О Гольцленере было известно, что он несколько лет состоял помощником коменданта лагеря Берген-Бельзен. (В листовках, которые сбрасывал на нас генерал Александер, имя капитана было также названо в числе военных преступников, ответственных за расстрел заложников в Равенне.) В распахнутой шинели, крепкий, широкогрудый и энергичный, он скорыми, легкими шагами подошел к алтарю, посмотрел на картину, оглянулся на меня и сказал, что собирается взять ее.
Про эту картину он, вероятно, слышал. И, может быть, еще издали прицеливался.
Я поднял руку и мягко заметил, что ему не следует брать «Мадонну Кастельфранко». (Я сам хотел ее взять, но, конечно, совсем другим способом.) Гольцленер сразу забыл о моем присутствии. Он взялся за раму и приподнял картину, проверяя, как она прикреплена к стене. Я положил ему руку на плечо и еще раз терпеливо объяснил, почему он не должен брать ее.
Он оттолкнул меня. Он все-таки стоял на своем. Оглянувшись на двери собора, он вытащил из-под распахнутой шинели большой мешок, торопливо расстелил его на полу, посмотрел на меня, выпрямился.
Тогда я поднял автомат и прошил его очередью.
Мы стояли совсем рядом. Когда очередь прошла по его груди, было похоже, как если бы кто-то изнутри — изнутри, а не снаружи — строчкой продергивал маленькие дырочки в сукне мундира, который мгновенно обгорал при этом. Дырочки же появлялись как бы сами собой, без участия моего автомата, который был ответствен только за жгущее пламя. (Тогда я впервые увидел действие автоматной очереди так близко. На более далеком расстоянии его, конечно, приходилось видеть слишком часто. Зимой, например, попадание пули в человека обычно отмечалось легким облачком снежной пыли, которая вспархивала над шинелью.) Это был первый человек, которого я убил за время войны… То есть как участник огромной военной машины я повинен в смерти многих. Но если лично, Гольцленер был первый.
Я оттащил труп в сторону, чтобы он не мешал мне с картиной, приступил к делу и взял ее.
Бой все приближался к собору. В двери я увидел наших отступающих солдат. Я справился с картиной и самым последним присоединился к ним.
Партизаны ввели в дело пулеметы. В городке, казалось, стреляло каждое окно.
Но картина была уже со мной.
Я привез ее сюда, в свой родной город, и здесь, в комнате, принадлежащей фрау Зедельмайер, повесил на почетном месте. На самой освещенной стене. «Мадонна Кастельфранко» тут и висит все послевоенные годы…
Уже совсем светло. Начинается день.
Я поднимаюсь с постели и прохаживаюсь по комнате.
Картины в рамах смотрят на меня.
Здесь нет только Валантена. Что-то всегда не позволяло мне взять его, хотя в Париже у меня бывали подходящие случаи. Но я не мог чего-то преодолеть. Может быть, это оттого, что слишком лично к нему отношусь. Он самый великий из всех художников, самый человечный, самый близкий мне. Мой единственный друг.
Я люблю многих живописцев, но, когда вижу Валантена или думаю о нем, все другие отходят, бледнеют и опускаются, а он остается один.
Я вскрикнул, когда первый раз увидел картину Валантена — то была копия с «Отречения святого Петра». И лицо молодой женщины на полотне осталось навсегда со мной. Лицо с короткими густыми черными волосами, с низким лбом. Не тупое, а как бы обещающее познать.
Это качество пробуждения есть во всех картинах Валантена. Удивительно живые лица смотрят с его полотен. На них отчетливый отпечаток времени, явственный след средневековья. Многие из них дики, низки, но при этом всем свойственна какая-то задумчивость. Как будто они спрашивают: «Кто мы? Что мы? Зачем?»
Я попытался вспомнить лицо Валантена на картине «Музыка» в галерее Пфюля, но не смог. Только смутно.
И все равно мне стало теплее от этого воспоминания.
Умирают ли гении?… Нет!
Вот он прожил непризнанный. Смерть его окружена забвением, никто даже не знает, где она настигла его.