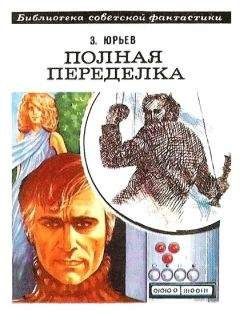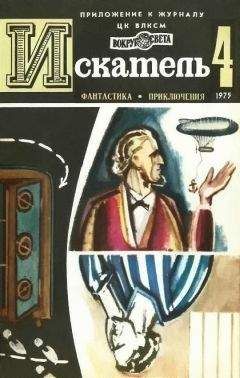С фотографии на меня смотрело лицо человека, которого мне предстояло упечь в тюрьму. Он словно догадывался об этом, и выражение его лица было кислым и недоверчивым. А может быть, просто в тот день, когда его сфотографировали, с краткосрочными кредитами вышел какой-нибудь конфуз. Или Аннабелла Ли, урожденная Грюнвальд, закатила ему утром очередной скандал из-за того, что он всю ночь храпел за стеной и не давал ей спать? А может быть, во всем виноват сын Питер, который заявил отцу, что не считает его работу высшим проявлением гражданственности? И что ему вообще наплевать на краткосрочные кредиты, равно как и на долгосрочные!
Ну-с, и что же все-таки заведующий отделом краткосрочных кредитов сделал такого, что обеспечило ему шесть лет тюрьмы и покрыло позором всю семью и друзей? Украл в банке деньги? Нет, не годится. Во-первых, это очень трудно организовать, а во-вторых, какой же это позор? Скорее наоборот.
Просто кража чего-нибудь где-нибудь? Гм, слишком общо. И неинтересно. Попробуй привлеки чье-нибудь внимание процессом о краже. Тем более, когда крадет какой-то безвестный банковский служащий. Вот если бы президент банка выхватывал на улице сумочки у престарелых вдов… А может быть, пустить по этой стезе и мистера Кополлу? Тем более что проценты, под которые одалживают деньги простым смертным, мало чем отличаются от банального грабежа. Ну-ка, как бы выглядели газетные заголовки? Банковский служащий принимает деньги без формальностей, всего лишь показав пистолет. Обвиняемый заявляет, что не грабил старух, а лишь осуществлял упрощенный прием денег.
Да, оказывается, толкнуть человека на преступный путь тоже не так-то просто. Неужели же я ничего не придумаю? Я уже не думал о моральной стороне своего творчества. Прошел час—другой, а я все еще бился с Джоном Кополлой. Я уже ненавидел его. Он уже был в чем-то виноват. И вообще он был виноват. С порядочными людьми такие вещи не случаются. И эта Аннабелла Ли, урожденная Грюнвальд… Эта бездельница и истеричка, всю жизнь пилившая супруга из-за того, что он мало зарабатывает, плохо играет в бридж, пьянеет от двух — трех мартини, не сгребает вовремя листья с дорожек их участка, рассказывает старые анекдоты и не выстригает волосы из ноздрей. И маленькая негодяйка Джанет, плаксивая и Хманерная, которая по вечерам тайно пробует перед зеркалом маменькину косметику.
Жалко только Питера, который не хочет даже жить в этом гадючнике, Впрочем, когда он узнает, что его отец занимался осквернением могил… А что, осквернение могил — это, по крайней мере, оригинально. Банковский служащий навещает по ночам своих бывших вкладчиков… А для чего, собственно говоря, он оскверняет могилы? Если не считать эффектного заголовка отчета о его процессе? Увы, те времена, когда вместе с усопшим захороняли все его богатства, давным-давно прошли. Теперь скорбящие родственники готовы даже зубы вырвать у покойника на память, если они золотые… Так и быть, пускай Кополла спит по ночам и не ходит на кладбища…
Я почувствовал, что должен отдохнуть, И выполз во двор. Никто меня не остановил. Никого вообще не было видно. Я поднял воротник куртки — ветер был какой-то особенно пронизывающий — и начал прогуливаться, двигаясь вдоль забора. Сделан он был на совесть -высокий, футов десяти, он был сложен из темного камня, и поверху его шла проволока. Через каждые футов двадцать на стене был укреплен фонарь. Неплохие, однако, доходы давала мистеру Ламонту его художественная деятельность…
Я дошел до ворот. Они были металлическими, сплошными и рядом с ними была небольшая будочка. Как будто в ней никого не было. А может быть, я ошибался. У меня было ощущение, что на меня все время направлены чьи-то глаза. Разбежаться, нагнуть голову и броситься на металлические ворота? И оставить бедного Кополлу без хорошего преступлении? Нет, таранить головой стены — это не для меня.
Я подошел к одноэтажному зданию, где уже был у Ламонта, и осторожно постучал. Дверь открыл Бонафонте. Я автоматически посмотрел на его руки. Нет, пистолета не было. Он, должно быть, понял меня.
— Ну что вы, коллега…
— Да, да, мистер Бонафонте, конечно, я все забываю, что у вас, должно быть, самые многообразные обязанности.
Он не ответил мне, не спросил, что мне нужно. Он просто стоял и ждал, что я скажу.
— Могу я видеть профессора?
Он повернулся, и я понял, что могу следовать за ним.
— О, мой дорогой Рондол! — профессор широко развел свои маленькие лапки, улыбнулся и встал навстречу мне. Мне показалось, что сейчас он заключит меня в объятия. Но он этого не сделал. Он кивнул мне на кресло. Он был таким чистеньким, таким седеньким, таким розовеньким, таким приветливым, таким доброжелательным, что мне захотелось спеть с ним какой-нибудь псалом. Я уже приготовился было грянуть «Ликуй, Исайя!», но профессор нырнул в кресло и спросил меня:
— Ну, как дела? Первые шаги? Нелегко, ведь признайтесь?
— Нелегко, профессор.
— Но что-нибудь вы все-таки придумали? Самые общие идеи?
— Ограбление на улице бедных вдов и осквернение могил.
Ламонт и смеялся как-то удивительно деликатно, все время поглядывая на меня: а не обиден ли мне его смех?
— Теперь вы видите, дорогой Рондол, что зря деньги нигде не платят. Представляете, сколько времени заняла у меня работа с Гереро?
Действительно, наверное, много. Мне захотелось поклониться этому неутомимому труженику.
— Но не огорчайтесь, — продолжал он, — я уверен, что вы добьетесь успеха. Это как творчество. Нельзя ожидать результатов каждодневно и регулярно. Вы можете ничего не придумать день — два, неделю. А лотом, в самый неожиданный момент вас вдруг осенит: так ведь этот Кополла приторговывал на стороне наркотиками. В его сейфе находят два пакета с героином…
Вот собака, как это я не придумал? Просто, эффектно и хорошо. Наркотики в банке. А может быть, все уже придумано, и старик хочет лишь проверить, на что я способен.
— Мистер Ламонт, — сказал я, — наркотики — прекрасная идея, и я…
— А может быть, вы придумали что-нибудь еще более эффектное? Дело в том, что наркотики мы использовали совсем недавно, а мне не хотелось бы повторяться чаще, чем это не обходимо. Это не только вопрос творческого самолюбия. Чем мы разнообразнее, тем меньше шансов, что кто-нибудь доберется до нас.
Мне хотелось думать, что я участвую в этом разговоре лишь для того, чтобы усыпить бдительность Ламонта, что на самом деле все во мне негодует и трепещет. Но ужас — я рад был, что хоть мог еще зафиксировать это в сознании — ужас заключался в том, что я воспринял весь разговор как нечто вполне естественное.
Я сказал профессору, что хотел бы поработать в саду, что люблю думать не сидя, а в движении, и получил разрешение взять грабли. Бонафонте молча отвел меня к небольшому сарайчику и подождал, пока я вооружился граблями.


![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)