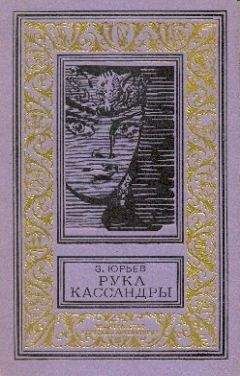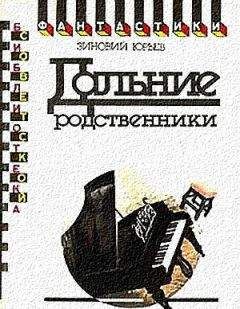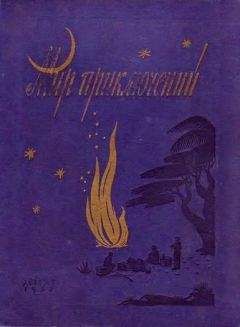— Браво, товарищ Голубь! Браво, браво! Значит, личное знакомство с Гектором и Андромахой — вещь предосудительная…
— Не знаю, — хмуро пожал плечами Иван Сергеевич. — Я, знаете ли, не всегда быстро ориентируюсь… Когда в прошлом году пришла девушка с запиской от товарища Логофета, вы не хотели и говорить об ее назначении на должность младшего научного сотрудника. С другой стороны, как вы говорите? Товарищ Гектор?
— Да, товарищ Гектор, товарищ Андромаха и товарищ Приам.
— Модест Модестович, — голос кадровика дрогнул, — я нахожусь при исполнении служебных обязанностей…
— Иллюзия, дорогой товарищ Голубь, фантом, фата моргана! Вы не можете находиться при исполнении служебных обязанностей, поскольку не понимаете их!
— Если вы так считаете… Я давно уже замечаю, что вместо серьезного подхода к вопросам кадров, вы, Модест Модестович, скатились! Да, да, скатились!
Иван Сергеевич уже ничего не боялся. Переступив какую-то грань, он вдруг почувствовал отчаянную веселость, легкость какую-то — вот-вот взмахнет крыльями и взлетит.
— Это я скатился? — Модест Модестович медленно встал во весь свой огромный рост, надменным движением головы откинул со лба прядь седых волос и крикнул неожиданным фальцетом: — Извольте объяснить, уважаемый товарищ Голубь, куда именно я скатился?
— А в болото! — задорно и бесстрашно выкрикнул кадровик.
— В бо-ло-то? — Модест Модестович страшно завращал глазами. — В бо-ло-то? Что вы хотите этим сказать, мстивый гсдарь?
— Я не мстивый гсдарь, а сотрудник института и прошу меня не оскорблять!
— Отлично, я не буду вас оскорблять, товарищ Голубь, но и вы… Налейте мне, пожалуйста, воды… Что-то сердце…
Иван Сергеевич вдруг почувствовал жалость к этому большому седому ребенку, почувствовал свое превосходство зрелого человека и ощутил даже потребность сделать для него что-нибудь приятное. Чувство это было уже ему знакомо, ибо ссорились они не раз и всегда расставались умиротворенные и притихшие, как после парной бани.
— Пожалуйста, выпейте, Модест Модестович.
Неуверенным движением слабой руки — Модест Модестович был хорошим актером и знал это — директор поднес стакан к губам и отпил глоток воды. На лице его были написаны отрешенность от мелких земных забот и прощение всем тем, кто так безжалостно толкал беспомощного старика к могиле.
И хотя Иван Сергеевич видел этот этюд по меньшей мере раз пятьдесят, он все-таки начинал чувствовать себя виноватым в чем-то таком, что не мог себе объяснить.
— Так как же с гражданином Абнеосом? — спросил Иван Сергеевич.
— Я же сказал вам, подготовьте приказ, — кротко прошептал Модест Модестович и прикрыл глаза веками.
— А подданство? — быстро спросил кадровик, словно метнул лассо. — Он ведь иностранный подданный.
— А вовсе и нет, — ловки уклонился от лассо директор. Глаза его были уже открыты и смотрели на Ивана Сергеевича холодно и настороженно, как смотрят, наверное, ветераны-змееловы на откормленную гюрзу. — Как он может быть подданным государства, которое перестало существовать три тысячи лет назад?
— А что сейчас на месте Трои? — твердо спросил Иван Сергеевич.
— Гиссарлык, где когда-то была Троя, находится на территории Турции.
— Значит, гражданин Абнеос турок.
— Турок?
— Да, турок. — В голосе Ивана Сергеевича зазвучала прокурорская медь.
— А может быть, не турок, а казак? — Модест Модестович теперь сочился сарказмом.
— В каком смысле? — удивился Иван Сергеевич.
— В смысле «Запорожца за Дунаем». Помните? Нет, я не турок, а казак…
— Модест Модестович, мне кажется…
— А мне кажется, что пора перестать мучить старика и подготовить приказ.
— Хорошо, — вздохнул Иван Сергеевич, — на должность истопника.
— Через мои труп! — крикнул директор ИИТВа и живо представил себе, как он, Модест Модестович, лежит на полу, а кадровик Голубь осторожно переступает через него, стараясь не зацепить ногой его седые волосы.
— Может быть, шорником по трудовому соглашению? — сказал Иван Сергеевич и вдруг заплакал.
— Что с вами, голубчик? — испугался Модест Модестович.
— Ни-чего, — всхлипнул кадровик и понял, что жизнь уже прожита.
— Антенор, проснись! — Кассандра дотронулась ладонью до лба старика, и тот медленно открыл глаза. Закашлялся, дергаясь всем телом, и наконец с трудом поднялся со своего соломенного ложа.
— А, это ты, девочка… Что случилось?
— Антенор, час наступил. Греки ушли, и на берегу стоит деревянный конь. Тот, о котором рассказывал Александр. — Кассандра говорила, захлебываясь словами, дрожа от возбуждения. Ее огромные глаза одержимо сверкали. — Значит, так и будет. Мы обречены. Отец допрашивал грека Синона и уверен, что раскрыл замыслы Одиссея. Он уверен, что в коне священный палладий и что, втащив его в город, он сделает Трою непобедимой. Это гибель, старик, это смерть! Она придет, я знаю, потому, что ход истории не остановить, но сидеть и ждать, и слышать заранее треск горящих бревен, от этого можно сойти с ума… Ты мудр, Антенор, ты стар, ты знаешь все. Научи меня, научи, прошу тебя…
— Не нужно, девочка, вытри слезы, ты ими не погасишь огня. И не говори, что ход истории не остановить…
— Но ты же знаешь, я видела гибель Трои! И Александр не думает, но знает! Он же пришел из будущего!
— Ни в чем нельзя быть уверенным, девочка, даже в том, что знаешь, и в том, что видел. То, что для одного гибель — для другого не гибель…
— Не лукавь, Антенор, детские трупики — это для всех. Научи меня, что делать, заклинаю тебя именем всех богов.
— Не знаю, девочка…
— Ты… ты не знаешь? Почему же тебя считают мудрецом?
— Наверное, потому, что я не знаю больше других…
— Старик, — глаза Кассандры гневно сверкнули, — мне не нужно слов, круглых, как морская галька. Ты сможешь пойти на берег и открыть коня?
— Ты ведь знаешь, я под стражей.
— А если я выведу тебя отсюда?
— Меня схватят по дороге.
— Это верно. — Плечи Кассандры опустились, взгляд потух.
Возбуждение покидало ее и вместо него приходила апатия. Сладкая тихая апатия, оправдывающая все и снимающая с сердца невыразимую тяжесть предвидения. До этой минуты она чувствовала огромное напряжение, словно упиралась ногами в землю, затыкая собой щель в плотине. Но напор сильнее ее. Ее отбросило в сторону, и вот уже тугие витые струи бьют через отверстие, размывают его, вот-вот поток прорвет плотину и хлынет бурлящей смертью, унося всех и все. И ее и Александра. И руки его, что, прикасаясь, посылали но ее спине ручейки сладкой дрожи, и глаза, в которых мерцала такая нежность к ней, что каждый раз, взглянув на них, она чувствовала, как у нее обрывалось сердце и куда-то падало, оставляя тревожно-сосущую пустоту… Александр, Александр, чужак, далекий, странный и любимый. Только еще раз увидеть его, только положить голову ему на грудь, только стиснуть руки у него на шее и прижаться к нему, забыть все.