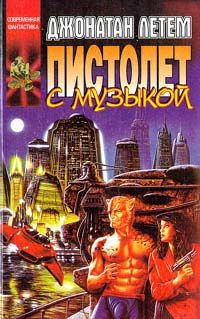— Ступай наверх, — бросил он Джою, и кенгуру беспрекословно направился к лифту.
Я продолжал стоять. Толстяк повернулся и одарил меня отеческой улыбкой.
— Присаживайтесь, мистер Меткалф.
Я сел в кресло, оставив Фонеблюму диван: он как раз подходил ему по размеру. Когда двери лифта за кенгуру задвинулись, толстяк обошел диван и, облокотившись на спинку, навалился на нее всей тушей, уронив конец шарфа на подушки.
— Вы говорили, нам есть о чем побеседовать? — Голос его отличался зычностью и легкой наигранностью, хотя тон оставался нейтральным.
— Пока что я почти за каждым углом натыкаюсь на вашего кенгуру, — ответил я. — Для начала хватит и этого.
— Вы — инквизитор.
— Совершенно верно.
— Вас не раздражают вопросы? Я с пониманием отношусь к тем, кто их не любит.
— Ничего. Вопросы — мой хлеб. С маслом.
Похожее на мясной пирог лицо снова осветилось улыбкой.
— Отлично. И я постараюсь помочь вам понять, с какой стороны на ваши вопросы мажут масло и кто его мажет. Видите ли, я живу достаточно долго, мистер Меткалф, чтобы помнить те времена, когда… впрочем, мои воспоминания вас утомят. Позвольте предложить вам выпить…
Я кивнул. С неожиданной для такой туши легкостью он поднялся с дивана и открыл шкафчик, полный янтарных бутылок и соответствующих стаканов. Не спрося моего согласия, он налил мне полный стакан того, что на поверку оказалось шотландским виски, и я взял его, не поблагодарив. Пока он устраивался на диване, я успел высосать почти половину.
— Джой отличается повышенным самомнением, — почти извиняющимся тоном произнес он. — Он не хотел ничего плохого. Он старается услужить мне и вовсе не так глуп. Вот только слишком уж горячо берется за дело, никак не могу его отучить.
— Я всегда считал, что кукол не учат. Просто дергают за нити.
— О! Это не совсем верно, мистер Меткалф. Джой далеко не кукла, да и я предпочитаю быть кем-то посложнее кукловода. Ну, например, катализатором.
Он умел говорить — и это в наши дни, когда умеющих говорить почти не осталось. Я и сам умею говорить, но меня обязывает профессия. Фонеблюм занимался этим из чистой любви к искусству.
— Меня мало интересует, кем вы предпочитаете быть, — сказал я. — Вы послали Джоя заставить меня отказаться от расследования. Я заработал себе на этом сломанный зуб.
— Мне казалось, такие вещи входят в вашу профессию.
— Из этого не следует, что я должен их любить. Вы хотите, чтобы я отказался от дела. Почему?
— Меня совершенно не заботит это дело. Вы огорчаете людей, о которых я забочусь, поэтому я и прошу вас остановиться.
— Люди, о которых вы заботитесь. Кто они?
— Доктор Тестафер, Челеста Стенхант и дети с Кренберри-стрит.
— В настоящий момент на Кренберри-стрит только один ребенок, Фонеблюм, и тот котенок. Люди, о которых вы, по-вашему, заботитесь, — это та самая компания, что меняется в лице при одном упоминании вашего имени.
Это немного укоротило его. Его брови сомкнулись и скептически приподнялись на обширном лбу — похоже, в условиях, когда остальная часть тела остается инертной, они компенсируют это своей экспрессией. Он поднял свой стакан и отпил, обдумывая ответ.
— Моя жизнь сложна, — пожаловался он. — Инквизиция отняла у меня большую и любимую часть моей собственности. Вся моя жизнь прошла в отрыве от общества. Я изо всех сил стараюсь сохранить хрупкие связи между тем, что было, и тем, что стало, но — увы! — часто мне это не удается… — Он прикрыл глаза, словно от душевной боли.
Актер из него был никудышный. Из меня тоже не ахти какой, но из него — совсем никуда.
— Доктор Тестафер назвал вас гангстером, — сказал я. — Он ведь тоже немолод…
— Доктор Тестафер может не принимать мое участие, — сердито перебил он, — но, поверьте, он живет только благодаря моей любезности.
Я забросил крученый мяч.
— Я был там сегодня вечером. Кто-то зарубил его овцу.
Фонеблюм встрепенулся. Он выпрямился и отставил стакан.
— Не беспокойтесь, — утешил я его. — Они повесят это на Энгьюина. На то есть приказ.
— Вы теряете клиента, — заметил он.
— Именно так. Возможно, цели у вас и у Отдела полностью противоположны, но, с моей точки зрения, и вы, и они в выигрыше оттого, что его подставили.
— Я никогда не встречался с Энгьюином.
— И не встретитесь. Его время вышло. Вы с Отделом пируете за его счет.
— Тогда позвольте спросить, какой вам смысл продолжать расследование?
— Я любопытен. Я вижу, что обвинение шито белыми нитками. И если я найду, за какую нитку потянуть, все это может обрушиться на вас.
— Прекрасное сравнение. Желаю вам удачи. Уж не думаете ли вы серьезно, что Отдел заинтересуется вашими подозрениями после того, как сам закрыл это дело? Кстати, как у вас с кармой?
— Моя карма вас не касается. Мне хватит.
— Ну-ну. — Он снова взял стакан и философски вздохнул — он мог себе это позволить. — Вы напоминаете мне меня самого. Таким, каким был когда-то. Даже сейчас мы не очень отличаемся друг от друга. Оба нетерпеливы — только вы еще и упрямы. Никакой гибкости. Компромиссы ведут к силе, к власти. А ваш характер не доведет вас до добра.
— Но ведь не я живу под землей, Фонеблюм.
— Вот-вот. Очень вы любите рычать. Это пугает.
— Мне не нужно рычать, чтобы запугать Челесту Стенхант, — возразил я. Я хотел вернуть разговор ближе к делу, к уликам, если их можно так назвать. — Она панически напугалась, приняв меня за одного из ваших парней. Что вы имеете против нее?
— Вы неправильно понимаете наши взаимоотношения. Я познакомил Мейнарда Стенханта с его будущей женой. Можно сказать, их союз — моих рук дело. Челеста очень забывчива, но обязана мне многим, и, надеюсь, она еще вспомнит об этом.
— Творение ваших рук под конец никуда не годилось. Стенхант нанимал меня следить за Челестой, когда она сбежала на Кренберри-стрит.
— Да, — мрачно согласился он. — Она такая. Нам все время приходилось приглядывать за ней.
— Пэнси Гринлиф — ее подружка?
Его брови почти завязались в узел.
— Нет, нет. Ничего такого. Просто друг семьи.
— Еще один друг, живущий только благодаря вашей любезности?
— Как вам будет угодно считать.
— Ну, малютке Пэнси ваша любезность не идет впрок. Я обнаружил ее в отключке после дозы запрещенного порошка. Чего-то под названием Вычиститель — для тех, кому недостаточно просто забывать. Если верить порошечнику, с которым я беседовал, Пэнси чистит свою голову изнутри словно тыкву на Хэллоуин.
— Ее брат совершил убийство. Я могу понять, почему она хочет…