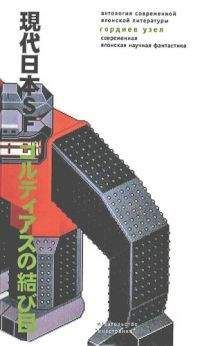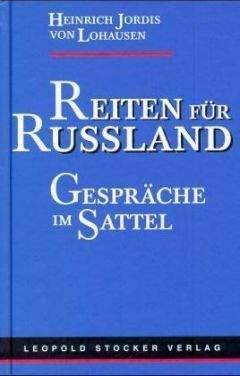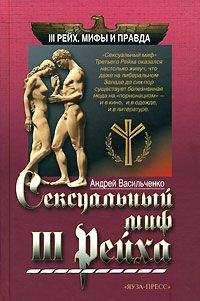— У тебя рука, — говорит, — больше моей. Рука Курбе. — И прижимается к руке Курбе губами.
— Какой смешной, — говорит, — пупок. Пикассо такие писал.
А губы уже там. Слушаю чушь, которую несет Канно, и так мне хорошо, радостно. Не знаю, откуда она взялась, эта радость, то ли от Канно. то ли внутри меня сидела. Но отныне рука Курбе и пупок Пикассо станут моими бесценными сокровищами.
Приступили к телесному общению.
Я наблюдала за этой сценой откуда-то с высоты, в подзорную трубу. Вот трудится Канно, он величиной с фасолину, Под ним лежу крошечная я. Я похожа на куклу, которая была у меня в детстве, — при каждом нажатии на живот издаю писк. Я и есть кукла.
Приоткрываю веки, смотрю Канно в глаза. В них замешательство. Мы совершили ошибку, поторопились. Надо было сначала как следует напиться. Нельзя заниматься таким по-звериному естественным делом рефлексуя. Повозились еще немножко и, не закончив, расцепились.
Итак, обменялись словами, обменялись телами. Больше обмениваться было нечем. Ни слова, ни тела ничего нам не дали. Очевидно, когда смотришь на человеческое существо в окуляр под названием «любовь», изображение здорово искажается.
Пришла домой — в прихожей топчется хмурый Жюли.
— Где была? — спрашивает.
— С папиком выпивали.
— Ну и как он, в порядке?
— У него мелантропия, — говорю.
Хотела сказать «меланхолия», но оговорилась. Голова была другим занята. Думала: мизантропия — это когда ненавидишь все человечество.
На следующий день накатила полная прострация. В глазах какой-то белесый туман. И жутко противно на душе, сама не знаю почему, Наверно, это было чувство вины, но не перед женой Канно и не перед Жюли. Просто общее ощущение нехорошести содеянного, такая банальнейшая моральная гадливость.
Канно сказал: «Видишь, как мы с тобой похожи».
Каково это, если любовник — твой брат, пусть даже не родной, а какой-нибудь сводный-единоутробный? Даже если абстрагироваться от морали, ложиться в койку с братом как-то дико, Он тебе близок, даже очень близок, однако не станешь же ты обвиваться вокруг него руками и ногами. Я впервые ощутила всю кошмарную греховность кровосмешения.
Для тех, кто так похож друг на друга, возможны только платонические отношения — это ясно. Не надо было трахаться с Канно. Теперь вот тоска на душе и ощущение пустоты внутри. Пусто в душе, пусто в теле, один дым и чад.
Ну его, не буду с ним больше встречаться.
Еще одна синяя птица тю-тю. Что ж, на то они и синие птицы, чтобы оставлять нас с носом.
Прижимаюсь к Жюли, плачу. Первый раз в жизни чувствую, что я с ним — одно целое.
Ёко — моя школьная подруга. Работает в газете. Я ее дразню «блестящим пером», Ёко же утверждает, что в редакции она — девочка на побегушках. Еще со студенческих лет мы с ней прикрываем друг друга, если надо переночевать вне дома. Она мне не просто подруга, а, можно сказать, боевая подруга. Многолетней дружбе особенно способствует то обстоятельство, что у обеих на любовно-семейном фронте дела так себе. В общем, дружим — периодически встречаемся.
После Валентинова дня я пошла к ней в гости и вручила шоколадный набор, первоначально предназначавшийся Жюли.
— Ешь, — говорю, — это вкусно. Из дорогого магазина.
— Что-то, — отвечает, — конфеты подсохли. Поди, с Валентинова дня?
— Угадала. Не пришлось подарить.
— А кому? Что у тебя вообще происходит? Давно не показывалась. Сказала — переезжаю на другую квартиру и пропала. Сейчас я у тебя буду брать интервью.
— Сначала свари кофе. И слопаем эти несчастные трюфели, а то они долго не лежат.
— Ты знаешь, я вообще-то трюфели терпеть не могу.
Верно. Ёко с некоторых пор не любит сладкого. Она была в командировке, в Германии, и в одном кафе заказала здоровенный кусок шоколадного торта. Приносят ей этакого слона из крема и теста, причем теста чуть-чуть, а крема целая гора. Съела она половину, чувствует — плохо ей. Но слово «недоесть» в лексиконе Ёко отсутствует. Стиснула зубы, попросила еще чашку кофе и умяла все до конца. Потом ее вырвало.
— После этого, — говорит, — на крем, шоколад, трюфели там всякие смотреть не могу. Видимо, свой трюфельный мешок я уже оттаскала.
— Какой такой, — спрашиваю, — мешок?
Оказывается, в одной японской провинции есть поговорка «таскать водяной мешок». Якобы каждый человек рождается на свет с мешком воды за плечами, причем воды в нем ровно столько, сколько человеку суждено за свою жизнь выпить. «Таскать водяной мешок» попросту значит «жить». Последнюю каплю выпил покойник.
— Вот я и слопала весь отведенный мне на этом свете шоколад. Мой трюфельный мешок пуст.
Я сразу подумала про Жюли. Ведь я хотела уйти от него, когда всплыла эта его Харука, но почему-то не смогла. И вот эта история тянется, тянется. Причем тяну ее я. И простить не могу тоже я. Видно, мешок с Жюли, который я тащу по жизни, еще не опустел.
— А у меня мешочек — не приведи Господь, — говорю.
Лицо Ёко сразу посерьезнело — уж больно трагически я это сказала.
— Ну давай, — говорит, — рассказывай. Что за мужик?
— А кто его знает, что он за мужик.
Хоть я пришла к Ёко за советом, начать трудно. Сижу жую шоколад, наказываю непослушный язык тошнотворной сладостью. И думаю: все калории в жир пойдут.
В общем, рассказала.
— Я его этой «Харука-тян» совсем достала, — говорю. — Жюли уже дошел до точки. Сегодня дал мне телефонный номер. Звони и спрашивай, говорит.
Но это не телефон Харуки. Она давно не звонила из Парижа, Жюли даже не знает ее теперешнего адреса. Во всяком случае, так он сказал, а там кто его разберет. Телефон их общего друга, которого зовут Кацу-сан. Тоже завсегдатай «Шалфея». Он все знает про Харуку и тоже неоднократно ссужал ее деньгами. Вот и расспроси его обо всем сама, сказал Жюли.
Обо мне этому Кацу он якобы ни слова не говорил. Он совершенно не в курсе наших дел. Ну как я ни с того ни с сего позвоню незнакомому человеку? Да и стыдно мне морочить ему голову историей про денежные переводы. Это все равно что признаться, будто я сама тайком от мужа шлю любовнику деньги. Совсем я запуталась. А к Жюли начинаю испытывать нечто похожее на ненависть.
— Вот и пришла, — резюмирую, — к тебе за советом. — В глаза Ёко я не смотрела, но чувствовала, как ее все больше и больше зло разбирает. — Помоги. Прошу.
Жалобно так говорю, чуть не со слезами.
— Ты что, сдурела? Ничего себе заявочки! Да пошли ты его знаешь куда!
— Ёко, ну пожалуйста. Мне и нужно-то всего только твое удостоверение и два часа твоего времени.