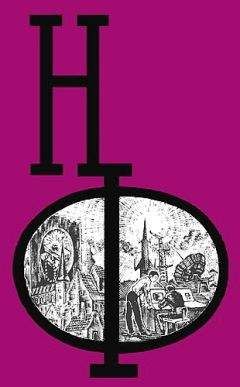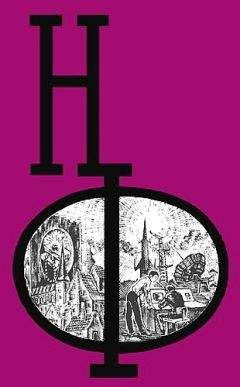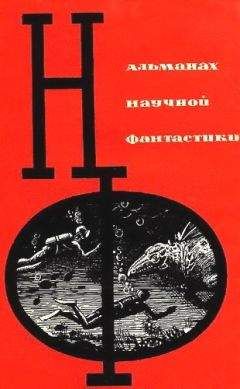— Так, — Гладунов прищурился, — О каких материалах идет речь?
Скрывая улыбку, Черныш опустил голову, потом ответил:
— Прошу учесть, я целую неделю отсутствовал и только сейчас первый раз за все это время пришел в институт.
— Учтем. О каких документах идет речь?
— Я говорю о золотых часиках швейцарской фирмы, которые были изъяты из комиссионных магазинов по делу о фальшивых деньгах.
Захаров шагнул вперед и протянул Гладунову ключ.
— Проверьте!
У Гладунова лицо моментально сделалось серым и скучным.
— Вообще-то, — нехотя протянул он, — у нас по таким вопросам существует специальная комиссия, но все же… Ну, хорошо, откройте сейф!
Захаров шагнул вперед, деревянно и напряженно, вставил ключ и резко повернул. Послышался скрип, но ключ не поддавался. Анатолий Павлович быстро потерял свою скованность, ожесточенно силясь провернуть ключ.
— Заело что-то, — пробормотал он. Лицо его покраснело от натуги.
Наконец, Гладунов позвонил и вызвал слесаря с электродрелью. Через несколько минут замок был рассверлен. Но никто из присутствующих не решался взяться за ручку сейфа. Все сосредоточенно смотрели на металлические опилки, серой горкой павшие на пол, на израненную дверцу сейфа и молчали.
Черныш молчал, потому что не должен был касаться этой ручки. Захаров потому, что очень не любил новых неожиданных дел и ощущений. Даже когда его жена меняла старое платье на новое, он испытывал скрытую горечь и раздражение.
А Гладунов ждал. Сейчас откроют эту дверцу, и в комнату войдет что-то новое. Какое оно — неизвестно. Хорошее, плохое — трудно сказать…
— Открывай! — скомандовал Гладунов, и Захаров распахнул дверцу сейфа.
Пустота.
Захаров отшатнулся и побледнел. Даже Черныш широко открыл глаза, он надеялся увидеть там хотя бы деньги.
Внутренность сейфа была черная, покореженная. Темно-синяя краска собралась на стенках в гармошки, повисла рваными клочьями. На задней стенке, словно зарево, горело большое оранжевое пятно.
— Смотрите, следы! — возбужденно прошептал Захаров, указывая на дно сейфа. Черныш увидел две четкие темные тени. Полукружия часовых браслетов пересекались, словно змеиные кольца.
— Анатолий Павлович, все освидетельствовать и запротоколировать, понятно? — распорядился Гладунов. — Друзья, отойдите, пожалуйста, подальше. Нужно сфотографировать внутренность сейфа. Дело становится слишком серьезным.
— Я понимаю, все это лишь вступление, — сказал Гладунов, обращаясь к Чернышу, — вам, вероятно, известно кое-что еще?
— Немного, совсем немного… Но сначала я должен извиниться, что облек свое сообщение в столь глупую торжественную форму…
— Ничего, это произвело определенное впечатление, — заметил Гладунов, — а вы, наверное, этого и добивались.
— Да, я хотел остановить ваше внимание… — заметил Черныш, — мне казалось…
— Понятно, — прервал Гладунов. — Так что же вам еще известно?
— Дело вот в чем. Если вы обратили внимание, в сейфе, очевидно, развивались высокие температуры. Обгорела краска, окислилось железо. Следы действия высокой температуры видны даже на стене. Только действие это кратковременное. И хорошо, что Захаров не имеет привычки класть в сейф бумаг, чертежей, шляп. Потому пожар не состоялся! Зато он произошел в одном комиссионном магазине. Там сгорела пара золотых часов, правда, сгорели не только часы, но все равно…
Гладунов пристально смотрел на Черныша.
— Что за чушь?? — сказал он громовым голосом. — Как могут гореть часы, металл, стекло, минералы? Вы понимаете, что говорите? Ну, с комиссионным, где вы, очевидно, сегодня побывали, все понятно, это обычный прием воров: заметать следы огнем. Под эту лавочку там могли весь магазин растащить, не только какие-то жалкие часики. Но как, по-вашему, могли развиться высокие температуры в сейфе, в закрытом сейфе?
Черныш упрямо опустил голову.
— Вы мне опять не верите, Тихон Саввич, а я снова повторяю, здесь мы имеем дело с загадкой природы, с еще неизвестной тайной материи…
— Ерунда, — оборвал его Гладунов. — Мы имеем дело с очень ловким неразгаданным преступлением. Как же, по-вашему, здесь возникли высокие температуры, уничтожившие деньги и испарившие золото? Нужно провести анализ стенок сейфа, — добавил Гладунов, обращаясь к Захарову. — Продолжайте, Григорий Ильич.
Пока Черныш развивал свои идеи о превращении материи в энергию, о страшном тепловом эффекте этой реакции, Гладунов думал о том, что все его предчувствия оправдались. Новое вошло в жизнь всех троих. Оно уже заставило Захарова сесть за стол и с озабоченным видом исписывать страницы протокола.
Нет, но послушать этого фантазера, просто уши вянут… Какой вздор! Распад ядерный, распад радиоактивный… Все же он слишком молод, ох, молодо-зелено. Ой-ой-ой! Сидят где-то мастера своего дела и работают. Работают с выдумкой, на широкую ногу, рискованно.
Нужно продумать, как бы их найти. И все. Поймать их за руку. В этом вся задача. А Эйнштейн, Дирак и другие пусть остаются физикам.
Черныш почувствовал, что говорит впустую.
— Может, это и смешно, — сказал он, — но во всяком случае не только я так думаю. Немецкая книжка подтверждает мои слова.
Гладунов внимательно посмотрел на него.
— Хорошо, — сказал он, — время покажет. А пока придется расследовать сей казус. Я сам займусь этим.
Орт умер за пишущей машинкой. Но не работе над монографией были отданы последние секунды его жизни. Он составлял ответ на докладную записку, которую скорее следовало бы именовать клеветническим доносом.
Предшествовавшие этому моменту события развивались приблизительно так.
Иван Фомич ненавидел Орта рабской завистливой ненавистью. Как ни странно, эта ненависть развилась из сознания, что всеми своими успехами он обязан только Орту. Все в Орте раздражало Ивана Фомича. Он не мог понять, почему Орт прощал ему и многим другим мелкие подлости и закулисные наветы. Орт легко мог бы сокрушить его, но почему-то не делал этого. Иван Фомич, в силу известной односторонности своей натуры, не допускал и мысли, что Орт мог просто царственно не замечать весьма далекой от науки деятельности некоторых сотрудников. Деятельности, которая составляла смысл существования Ивана Фомича.
А Евгений Осипович торопился жить и глотал жизнь взахлеб. Он знал, как мало времени отводит природа человеку на настоящее дело, и спешил сделать как можно больше. Он просто не позволял себе отвлекаться на пустяки. Постепенно у него выработалась привычка вообще не реагировать на все, что он считал посторонним. И это очень мешало в работе ему самому и всем честным порядочным людям, которые его окружали. В такой обстановке терпимости или, вернее, безразличия к нечистоплотным действиям возросла ненависть Ивана Фомича.