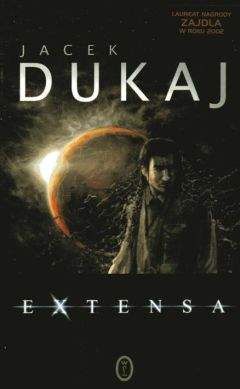Но все это были лишь побочные эффекты; поскольку основной функцией и назначением неокортекса были описание, анализ и объяснение феномена Аномалии. Она растягивалась аморфной туманностью практически до орбиты Третьей; но при этом далеко выходя за плоскость эклиптики. Аномалия заслоняла часть диска Медузы, обертываясь вокруг него словно аккреционный диск[8], только более широкий и не столь симметричный, в вертикальной проекции далекий от спиральной формы; отсюда брались те нерегулярные изменения наблюдаемой яркости и спектра излучения звезды, которые обратили внимание астрономов на систему Медузы. Линии поглощения в электромагнитном спектре Аномалии внушали мысль не сколько о водороде и гелии, но о более тяжелых элементах, вплоть до нестабильных трансурановых. Нёбом я чувствовал жаркое первичное излучение Аномалии, экстенса уже окружила ее по полной окружности и теперь выходила очередными периферия ми к полюсам звезды, так что ничто не могло от меня сбежать, я регистрировал каждый скачок напряжения пульсирующего излучения элементарных частиц, а в той части Аномалии, которая пересекала систему Медузы все кипело будто в термоядерной печке, вот только с быстрыми нейтрино была проблема, но и их в достаточном количестве выхватывал броненосный вакуумный паук, и тут же все собранные таким образом данные заглатывала спутниковая часть моего мозга, чтобы наново перестраивать и трестировать модели внутренней структуры Аномалии.
По вынужденной орбите паук все глубже спускался в гравитационный колодец Медузы, через орбиту Четвертой, а самые длинные его отростки уже мутировали, принимая формы автономных зондов, готовя Пальцы к окончательному Прикосновению.
* * *
Вместе с весной вернулся Бартоломей. В один из воскресных дней он заехал к нам вместе с Пастором; впрочем, это был вообще первый визит Бартоломея на ферму.
Мне он показался каким-то помолодевшим, явно более энергичным — может быть, потому, что наконец-то не ходил в латаных халатах и мешковатых огородных штанах. Теперь он одевался как один из ковбоев с западных ранчо, даже запустил чудные усы. Кроме того, он сильно загорел. Но более всего в глаза бросалась перемена выправки: словно он прикупил себе новый позвоночник. Достаточно было ему перестать горбиться, чтобы вырасти на ладонь. Он целовал дамам руки, очаровательно кланялся и громко смеялся — салонный лев и душа компании.
Сусанна глядела на него с явным недоверием.
— Дедушка, а ты, случаем, во время какого-то своего бродяжничества не влюбился? — спросила она у него как-то днем, когда все мы лущили на веранде горох (рядом храпел Леон Старший, отсыпая ночь — по ночам он никогда не спал).
Мастер Бартоломей подмигнул ей.
— Каким же это образом? Это ты носишь мое сердце в кармане.
Девочкой Сусанна всегда легко краснела и, как видать, у нее до сих пор это не прошло.
— Не шути. Так все-таки, что случилось? Выглядишь так, словно у тебя со спины сняли мешок картошки.
— Значительно больше, детка, — вздохнул тот. — Намного больше.
Я внимательно глянул на него. Сусанна, должно быть, перехватила этот взгляд. После этого, морща брови, она загляделась на Бартоломея, отставив даже миску с горохом.
— Экстенса? — бросила она.
Бартоломей скорчил ужасную рожу.
— Ой-ой-ой, я же никому не стану рассказывать! — рассердилась Сусанна.
— Ты же понимаешь, что дело деликатное.
— Знаю.
— По-по-помню, как ты становилась перед Орг-ганом, когда была еще вот т-такая, — показал я рукой. — И н-н-не оторвать. В ег-го свете. Я заб-бирал тебя, ты уже спала. Все от уп-п… от упоения.
— Да, он был красивый, — чуточку стыдясь буркнула девушка себе под нос.
— Вот тож.
— Никаких вот тож. Ну, скажи, дедушка.
Тот пожал плечами.
— Я закончил, — сказал он просто. — Все исследовано, описано, классифицировано. Я составил Отчет, он в библиотеке в имении, книга, вот такая вот толстая. Потребности поддерживать ретрансляторы уже не было, экстенсу я атрофирован и отсек. Не скажу, чтобы ампутация была безболезненной, можешь представить эти фантомные боли — но теперь я свободен.
— Св-вободен, — повторил я, пытаясь уложить про себя новые временные иерархии: ведь я по сути никогда не знал Бартоломея как Бартоломея, с самого начала, от самой ночи кошмара это был Бартоломей-плюс-эестенса.
— Вот так.
— Выходит, — допытывалась Сусанна, — теперь ты начнешь стареть?
— Я и так старею, не смотря ни на что; тут же не так, что мы получаем бессмертие. Но если ты спрашиваешь про темп этого старения — что нет, то нет, ведь я из своего тела ничего удалить не могу.
— Зуз-ззза хоч-чет иммметь эл-ликсииррр молодости.
— Наихудшая их всех возможных мотиваций, — покачал головой Мастер Бартоломей. — Тогда уже сразу иди к Ним.
— Ой, успокойтесь, — фыркнула Сусанна. — Впрочем, даже и не знаю, хотела бы я. С этим мешком за спиной, в течение — сколько это? Лет двести?
— Бывает по-разному. У меня как раз это была счетверенная система, более светового месяца протяженности, так что тянулось без конца. Но он — как это выглядит у тебя?
Впервые мы говорили о своих экстенсах столь откровенно. Быть может, Бартоломею было легко, поскольку он сбросил с себя это бремя, говорил о прошлом, а прежде всего — о чем-то отдельном, не о себе; о каком-то мертвом объекте. Но я чувствовал смущение. Про некоторые вещи не следует спрашивать откровенно, вообще спрашивать. Сколь же унизительны такие порнографии души!
С глазами, опущенными на пальцы, лущившие горох, я пытался защититься:
— Да как-то неспе-ешно. Идет.
— Но сколько еще? Наверняка же у тебя есть приблизительные расчеты для оптимистической и пессимистической версий.
— Да-а-а, вообще-то, уже идет к концу. Я закрываю объем. Вот только ана-ана… лиз…
— О! Лет десять? Меньше?
— Мо-о-жет.
— Если нужны какие-нибудь деликатные операции на самой границе чувств, воспользуйся лучше комнатой сенсорного подавления. — Сам я всего лишь раз видел, как сам Бартоломей пользовался ею, той самой комнатой, вспухающей после входа посетителя щупальцами и выростами, пока человек не будет полностью ими охвачен, поднят в воздух, подвешен в объятиях мягкой и практически не ощутимой на ощупью массы; слепой, глухой, отсеченный от всех запахов, пока единственной отмечаемой реальностью не останется экстенса; и нет уже иных глаз, ушей, рук и пальцев, как те, что измеряются километрами холодной темноты. — И вообще, загляни туда наконец. Пригодилось бы заняться огородом, ведь там разруха. И сад дичает. А?