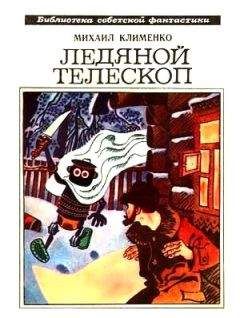Кажется, она училась в седьмом классе, когда я учился в девятом. Как она изменилась, повзрослела!..
Золотисто-зеленым в девушке было все: и лицо, и руки, и платье, и даже сандалии. Чем дальше она уходила, тем больше менялся ее цвет. Скоро она стала золотисто-лимонной и исчезла среди уходящих домой, среди деревьев… Чем дольше я на нее глядел, тем темнее становилось вокруг, а этот самый тау-цвет стал прозрачнее, как бы незаметней. После того как я увидел светящуюся девушку, незнаемый цвет утратил то неопределенное значение, которое меня тревожило и тяготило, и стал восприниматься как нейтральный фон.
В моей цветослепоте все было непонятно. Я снова с беспокойством подумал о своем здоровье: теперь меня меньше всего волновала сама аномалия цветозрения — за этим скрывалось что-то поважней…
После отпуска я вышел на работу в среду, на второй день после того происшествия в деревне. Три дня кое-как проработал, думал, все пройдет. Но диковинная цветослепота не только не проходила, но приобретала все более странные формы.
Цветотонировщиком я больше работать не мог. Поразительно: такой недуг обрушивается именно на колориметриста-тонировщика, на человека, вся трудовая деятельность которого связана с цветом! Колориметрист, который различает лишь белое, черное и серое да еще какой-то тау-цвет, — в этом было что-то трагикомическое.
Я ехал на фабрику, чтоб сегодня же, в понедельник, уволиться или перейти на другую работу.
Наконец-то автобус останавливается. Здесь выходят почти все. Дальше еще две остановки — и конечная. Около фабрики шофер постоит чуть подольше. Пока пассажиры выходят, шофер, как всегда, по репродуктору объявляет:
— Фабрика ЭФОТ. Билеты в автобусе на пол просьба не бросать… — и закуривает, это я вижу, обходя автобус.
То, что это фабрика, и без него все знают. И правильней было бы сказать: «Остановка ЭФОТ», потому что ЭФОТ — это значит «Экспериментальная фабрика особых тканей». И никакого отношения к фотографии, как думают многие, не имеет. Это название старое. Теперь официально она называется иначе: «Экспериментальная художественная фабрика праздничных и особых тканей». Но все привыкли к короткому старому слову, и никого уж не переучишь.
С заявлением об увольнении мне надо было зайти к директору. Я прошел через проходную. Во дворе фабрики через траншею был перекинут узкий мостик, сколоченный из свежих серых досок. Недалеко справа, над этой же глубокой траншеей с выброшенным на стороны темно-серым грунтом, над новыми водопроводными трубами, был перекинут другой такой же мостик. По одному люди шли в одну сторону, по другому — обратно.
И вдруг за тем мостком, в дальней стороне двора, куда только что вдоль высокого забора, гремя пустыми флягами, укатил грузовик, я увидел яркое цветное пятно — одно-единственное во всем, что меня окружало. Нечто слепящее фиолетово-розовое…
Там, слева от проезжей части дороги, под развесистыми тау-цветными акациями, у кучи выброшенного грунта стояли трое. Двое из них были цвета тау и почти сливались с такого же цвета деревьями и травой. Я бы на них никогда и внимания не обратил. А вот третий среди нейтрального, безразличного для меня тау-цвета, на фоне черно-серого грунта светился яркой сиренево-фиолетовой кляксой.
Я стоял на мостике, словно коряга на быстрине. Люди спешили. Кто выражал недовольство, кто шутил: «Ну, приятель, нашел где досыпать!..»
Я боялся, что далекое цветное пятно вдруг расплывется и тогда я не смогу узнать, кто там из троих и почему такого яркого фиолетового цвета. Не отрывая от кляксы взгляда, я сошел с мостика и побежал по правой стороне траншеи. И чем ближе к ним подбегал, тем интенсивней, ярче становился цвет того человека.
Запыхавшись, я взлетел и остановился на склоне глиняной кучи. Трое мужчин стояли на краю большой квадратной ямы и не спеша обсуждали какой-то вопрос, похоже, касающийся прокладки труб, которые из этой ямы расходились по разным направлениям.
Когда я, тяжело дыша, остановился на куче высохшего грунта, все трое с удивлением повернулись ко мне. Один из них был директор фабрики Павел Иванович. Другой — мой тезка, Костя-автогенщик. Он был в брезентовой робе, стоял с горелкой в руках, от которой к баллонам тянулись черные шланги.
А этот, третий, в длинном фиолетово-сиреневом макинтоше, стоявший на разлапистой задвижке на краю ямы, был не кто иной, как Ниготков, замдиректора по хозяйственной части. И не только его длиннущий макинтош вызывающе переливался розовато-фиолетовыми разводами, но и руки, лицо, шляпа, туфли — все светилось яркими ядовито-сиреневыми оттенками.
— Ну что, товарищ Ниготков?! — не глядя под ноги, соскальзывая с сухих комьев, громко спросил я его. А сам продолжал взбираться по склону серой глиняной кучи. — Как дела? Как самочувствие?.. Ничего такого, Демид Велимирович, не чувствуете у себя за спиной? И никакого такого беспокойства нету, а?..
Все трое снизу, с края ямы, в недоумении глядели на меня.
Территориальный грузовичок с коротким кузовом пропылил между забором и траншеей в сторону проходной. В красильный цех повезли фляги с краской…
— В чем дело, товарищ Дымкин? — так и не опустив удивленно поднятых мохнатых бровей, спросил меня директор, когда грузовик проехал и стало тихо.
Как бы краем сознания я поймал себя на мысли, что мою необъяснимую неприязнь, этот горячечный наскок никакой логикой не оправдать. Здравый смысл будто нашептывал мне издалека, подсказывал: очнись, остановись-ка… Но я почему-то был в таком взвинченном состоянии, что руководить своими эмоциями не мог. А для того чтоб сдержаться, не хватало самой малости. Взять бы себя в руки да чуть поразмыслить, взглянуть на себя со стороны…
— Он что?.. — тихо спросил Ниготков директора. — Видно, из драмкружка парень?..
Ярко-сиреневый, весь в фиолетовых и розовых разводах (будто какой диковинный попугай), Ниготков сел на задвижку и, чуть склонившись, стал внимательно разглядывать переплетение труб в яме.
Да, действительно, странная картина была перед моими глазами. Если не считать того, что нейтрального цвета тау были деревья да директор с Костей-автогенщиком, — все остальное вокруг было белое, черное и серое. И лишь один Ниготков тут такой цветной. Этакий гранат, багровый фурункул или, может, кочан цветной капусты сидит на краю ямы и разглядывает трубы! Я сразу заметил, что от моих слов вся его попугайски сиреневая расцветка подернулась тенями, омрачилась сливяно-сизыми потеками…
Он вдруг поднялся. Стоял, топтался в ярко-сиреневом длинном своем пыльнике, в начищенных, с утра зловеще поблескивающих черно-пурпурных туфлях. На голове его слегка набекрень сидела ярко-фиолетовая шляпа. Его лицо теперь было с насыщенным синевато-металлическим оттенком, словно покрытое гибкими пластинами свежей окалины. Такого же цвета были и его руки.